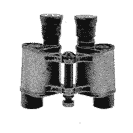 |
| Рубрики |
| Авторы |
| Персоналии |
| Оглавления |
| Авангард |
| М-студия |
| Архив |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
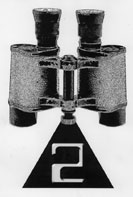 |
 |
 |
| Главная | О журнале | Оглавление | Отзывы |
Зачем нам постмодернизм?
Мы всегда ищем безусловное,
Но находим только слова.
Новалис
 |
| О.Бердслей. Библиотека Пьеро |
Почему цитирование стало модой, самодовлеющим приемом, более того, мыслительной матрицей? Мы живем в мире, всё больше напоминающем беспредельную борхесовскую вавилонскую библиотеку, где уже есть "перевод каждой книги на все языки, интерполяция каждой книги во все книги..."
"Мы бредем по лесу символов" (Бодлер) и утратили способность смотреть на жизнь вне ЧУЖИХ слов. А сами знания становятся догмой, мешающей мышлению. Гегель говорил о трудности мыслить ученых нового времени и способности древних ученых философствовать. Бодрийяр - об инфляции значений в условиях постоянного их производства, накопления и обмена.
Не является ли эта интеллектуальная мода разрушением самого мышления, философии и культуры?
Но прежде важно понять, почему цитирование из приема, свойственного любой культуре, стало самоцелью, породило новый стиль, именуемый постмодернизмом.
Постмодернизм - это присвоение
В России нет постмодернизма,1 но в России есть постмодернистское искусство (Саша Соколов, Пелевин, Сорокин, Акунин, Охлобыстин, Крусанов), постмодернистская наука (послелотмановский структурализм, междисциплинарные исследования), постмодернистское мышление (методологическая школа Щедровицкого).
Первым, что втянулось в сферу капитала в России, стала культура. Единственное, что у России может быть "снято" и пущено в оборот. Можно говорить о моде на постмодернизм и заимствованиях у Запада. Но для постмодернистских практик в России есть внутренние основания. Литературоцентричной стране надо что-то делать со своим (и с чужим) богатством. Тем более, если другого нет. Если на Западе капитализм, по прозорливому предположению Макса Вебера, начался с протестантизма, в России он парадоксальным образом начинается с постмодернизма. То есть духа присвоения.
Цитирование - ни что иное, как присвоение. Это главное в постмодернизме. Но это не гегелевский Bildung, не марксовское распредмечивание, не воля к власти и не герменевтическое постижение смыслов.
Если Гегель и Маркс анализировали работу становящегося, являющегося и отчужденного сознания, дойдя до практики его изменения через критику оружием (и эта философская рефлексия отражала реальность становящейся науки и капитализма), то теоретики постмодернизма показали, что происходит с сознанием в информационном обществе, когда сам дух перестает быть Абсолютом (умирают бог, философия, наука и искусство) и собственно духом и превращается в информационные технологии, которые проникли во всё.
Теоретики постмодернизма взглянули на омертвевшие плоды работы духа, на склад культуры, на горы ее трупов. Сам взгляд стал деконструкцией, имеющей дело с символами, утратившими свою ценность и симулирующими истинность. Постмодернизм стал чистилищем, хранилищем и цветущим кладбищем культуры. Ее каталогом, базой данных, базой баз данных, в которых герои и символы кивают друг на друга, теряя свою идентичность. Отсюда иронический дух, сарказм, нигилизм, скепсис, веселая наука игры (которую предвосхитил Ницше), новое мифотворчество и гиперреальность.
Постмодернизм - мышление в реальности, где историей и трудом создан огромный овеществленный мир культуры, который погибает вместе с природой. Мышление стремится этот мир сохранить. Отсюда колоссальная работа коллекционирования (Гринуэй), присвоения, попытка всё классифицировать (Фуко, Леви-Стросс) и описать. Эта работа создает новые смыслы, порождая гиперреальность и мифотворчество.
Бог потерял свою трансцендентность, а вместе с ним и Сущность (понятую по Платону). Мысль обратилась к смыслу, к слову, термину, предложению. Этот поворот мысли стал началом постмодернистского мышления.
Дух: от "Утренней Зари" до смерти
Дух имеет свои этапы жизни. "Утренняя заря" (Будда, Зороастр, Пифагор, Платон и др. - радость первого осмысления мысли. Мысль - это субстанция. Мысль - это всё. И отсюда ликующий идеализм, породивший христианство и все формы теологии). "Торжество Духа" (образовательная эпопея сознания, описанная Гегелем в "Феноменологии духа" и "Науке логики". Мысль мыслится инструментально, ее можно образовать через труд и обучение. Расцвет науки, в особенности, политэкономии. Марксистский проект изменения сознания и преодоления отчуждения в свободном труде и гуманистическом обществе). "Скепсис" (ницшеанская гибель богов, шпенглеровский "Закат Европы", все разновидности агностицизма. Крах декартовского cogito ergo sum. Мысль теряет теологический статус божества и статус вообще. Эмпиризм). "Смерть" (структурализм, Бодрийяр, Деррида, Делез. Технологии исследования текстов в поисках понимания мышления. Поиски мысли).
В практике постмодернизма Дух (или его симулякр?) эксплицитно проходит все описанные способы работы сознания, но путь этот идет в направлении прямо противоположном гегелевской Логике. Не от начала зарождения сознания через великий пафос Bildung (Образования) до Абсолютного Духа, а от деконструкции смыслов к простому называнию (Это).2
Разница в том, что умирает сам Дух: избыток значений оказался смертельным для культуры. В условиях господства восставших масс (Ортега) эта непереваренная избыточность стала поводом и основой для мифотворчества. Называние стало цитированием, производящим новые смыслы, не имеющие ничего общего с первозданными. Духу может ответить только Дух. Но Дух умер, а его останки если и не внушают трепет, то требуют памяти.
Потому Делез переписывает Канта, Деррида проказит с "любовью" Платона и Сократа, Бодрийяр строит гиперреальность, Крусанов создает ницшеанский миф о грядущем русском тиране, Соколов, Сорокин, Пелевин пародируют советскую историю и русскую литературу, etc. etc...
Русские постмодернисты по преимуществу заняты мифотворчеством. Переписывая заново русскую (в особенности советскую) историю они совершают попытку избавиться от ее кошмара и обрести эту историю заново. Терапевтическая и идеологическая роли русского постмодернизма очевидны на фоне играющих Борхеса, Павича, Умберто Эко.
Постмодернисты не производят знаний, не ищут истину и перестают обращаться к реальности. Уничтожается классическое противостояние субъекта и объекта. Реальность замещается цитатой, мир превращается в гигантскую базу данных, виртуальную реальность, мировую паутину.
Новый нигилизм
В России работе капитала также должна предшествовать работа "духа". Вторжение западных технологий не способно автоматически деконструировать русский социализм с его общинным духом. Постмодернистское взрывание культуры, кроме содержательного ее присвоения, несет закаливающий дух остранения и отчуждения. Дух абсурда и одиночества. Русским, не прошедшим протестантского одиночества, предстоит пройти историю отчуждения (и, быть может, последующего освобождения) постмодернистскими практиками. Уничтожить свое прошлое и весело расстаться с ним.
Но само пространство мысли в России невероятно узко (см. об этом мое "Размышление о Мандельштаме" в "Бинокле" N9 - www.binokl-vyatka.ru):3 у русских не было собственной интеллектуальной истории - собственной мифологии, собственной философии.4 И это создает предпосылки для тупого техногенного наступления Запада и обрекает на неподвижность, распад, уступая место абсурду.5 И одновременно порождает мифотворчество.
Мы - страна нигилизма, говорил Бердяев, и оттого уничтожать нам радостно. Постмодернизм у нас приютился как новый нигилизм.
России остается снова смотреть на Запад, по-крусановски оправдываясь и охмеляясь: "Россия - это место, куда Бог наступил своей одной ногой, поэтому он не видит, что здесь происходит" ("Укус ангела").
 |
| Н.Журавлев-Гибарян. Z-791 |
 |
| Н.Журавлев-Гибарян. Z-700-2 |
Что есть истина?
К вопросу об истине. Бодрийяр говорит: больше нет означаемого. То есть больше нет реальности? Капитал, по Бодрийяру, уничтожает различие между знаком и значением, правыми и левыми, истиной и ложью. Нет науки с ее объективистскими приниципами. Значит, нет и постигающего реальность мышления? Нет истины?
Еще раньше Мартин Хайдеггер говорил, что истина бытийствует теперь только в слове поэта. Но оно, по Бодрийяру, вне сознательных практик. Об отказе от истины как принципиальной установки сознания говорит Лиотар и другие теоретики постмодернизма.6
В России не было другой истории, кроме истории ее государства, затянувшейся в своем становлении аж до XVI века Иоанна Грозного. Всё остальное в Российской империи, по маркизу де Кюстину и Чаадаеву, заимствовалось. Следуя Бодрийяру, можно утверждать: в России государство (здесь именно оно играет роль порождающей историю субстанции) уничтожает различие между знаком и значением, истиной и ложью...
Русское государство в своем абсолютном господстве посягало на трансцендентность. Его насилие порождало страх, который вместе с общинным духом, противостоящим огромным, необустроенным просторам, делал невозможной мысль. Мысль не может осуществляться вне свободы. Мысль - это свобода. Свобода - это прежде всего мысль (ОСОЗНАННАЯ необходимость).7
Тотальности государства противостояли русскоязычные иноземцы (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Мандельштам, Пастернак, Маяковский, Хлебников...), создавшие чудо русской литературы и русского языка, где совершались истина и свобода. В русской культуре состоялся только литературный тип трансцендентальности.
В России истине всегда противостояла бюрократия с ее цензурой, политическим преследованием и физическими расправами над теми, кто истину осуществлял. Будучи тоталитарной по своей природе бюрократия не могла создать и не способствовала созданию никаких рациональных смыслов, и при этом истиной и истинной "в себе и для себя" была только она сама.8
Поэтому в России важно осмыслить роль бюрократии и ее мышления (идеологии, в смысле ложного сознания, по Марксу), чтобы понять границы истины, границы мышления и границы культуры. Русский постмодернизм художественно осмысливает эти границы.
Сама истина сегодня требует нового понимания. Старая гегелевская диалектика с ее понятием истины как полноты развития является осмыслением некоей прямолинейно развивающейся субстанции. История после новейших антропологических исследований народов на доисторической стадии развития, работ Шпенглера, Дильтея и Фуко выглядит скорее как самодвижение отдельных распадающихся структур, общее поступательное развитие которых кажется метафизической фантазией. И это заставляет искать новой сущности, определяющей что развивается внутри каждой отдельной структуры, и требует заново понять, какой полноты следует ожидать.
В любом случае простое соотнесение предмета с денотатом или референция как условие истинности суждений представляется недостаточной, когда понимаешь подвижность этого самого денотата...
Отрицание истины вообще означает отрицание мышления. Даже если язык перестает называть и обозначать волею бюрократии или симулякров, превращаясь в игру цитат и символов, мышление в своей сущности, в своей воле тотально и систематично. Истина - деньги мышления, его золотой эквивалент, его цель и горизонт, где - по Хайдеггеру - вершатся смыслы. Вне этого понятия мышление невозможно.
Если следовать до конца Бодрийяровской логике отрицания истины, то стоит признать бессмысленность всего говоримого. Между тем известная правота Бодрийяра опровергается тривиальным рассуждением Карнапа: "Смысл предложения находится в методе его верификации. Предложение означает лишь то, что в нем верифицируемо".9
Мы мыслим до тех пор, пока мы хотим установить истину. Бодрийяр, мысливший придуманные им симулякры, является онтологическим доказательством возможности мысли. Или он не мыслил, когда мыслил свои симулякры?! До тех пор, пока мы ищем истину, мы мыслим. Вопреки (или при искажающе-проясняющей сути?) симулякрам, вопреки бюрократии.
Последние, как и коды, не радикальнее кантианских априорных форм восприятия (или кантианского трансцендентального единства апперцепции). Это некие исторические способы организации мышления, свойственные той или иной эпохе. В России роль некоего априори, организующего восприятие и создающего предпосылки для мышления, играют тоталитарные идеологии. Поэтому мышление подменяется мифотворчеством. А в мифе истины не ищут, в мифе живут.
Вера ЯКУБОВИЧ
Примечания:
1. Постмодернизм. Можно повторить характеристики постмодернизма - смешение всех стилей, интертекстуальность (цитатность), дух иронии etc. Но это немного дает для понимания сути, потому что это только называние. Еще можно добавить, что по характеристике Мак-Хейла, постмодернистский дискурс отличается от модернистского (обоим стилям свойственна интертекстуальность) тем, что в постмодернизме цитирование приобретает онтологический статус. Если модернистский автор идет от вопроса: "Как я вижу мир?", то постмодернистский от вопроса: "Как мир устроен?"
Я не знаю, что такое постмодернизм до исследования. Я могу сказать, что постмодернизм это то, что делали Борхес, Павич, Крусанов, Соколов, Сорокин и др. Но проблема не ограничивается собственно художественным методом. Ведь цитатность или даже больше некая семиократическая реальность выместила реальность как таковую. Весь социум живет в жестких рамках пространства пиарных, медийных конструкций. Лиотар определяет модерн(изм) и постмодерн(изм) как состояния знания.
2. Деконструкция, мыслительной прием, способ взорвать старые смыслы. Так, обезумевший Гамлет (за триста семьдесят лет до появления информационного общества) на вопрос: "Что ты читаешь, принц?", - отвечает Полонию: "Слова, слова, слова". Шекспир ответом Гамлета показал отстраненность принца, его напряженно совершающуюся мысль, а еще нежелание участвовать в лицемерной игре Полония: всё - слова!
3. О ничтожности мыслительного пространства говорит и то, что в России никогда не было и настоящей истории безумия. Мы не создавали, по примеру Западной Европы, работных домов, "общих госпиталей" и других заведений, где европейский мир изолировал своих еретиков, либертинов и прочих диссидентов как умалишенных (подробнейшим образом об этом рассказывает Мишель Фуко в своей "Истории безумия в классическую эпоху"). Чтобы бороться с безумием (или неразумием), необходимо понимать ценность рациональной (интеллектуальной), частной жизни. В России ценится только государство и ее бюрократия. Только посягательство на интересы бюрократии оценивается как безумие. Причем бюрократии в самых тоталитарных формах ее существования. Так, советская бюрократия садила своих врагов в психушки, а царская - в тюрьмы. Диссиденты в собственном смысле в России появились только тогда, когда российское государство стало крепким и осознало необходимость защиты внутренней безопасности. Но в России никогда не строили "работные дома" для воспитания юродивых. Больше того, таких людей "общественное мнение" не только не порицало, а напротив - почитало.
4. Граф Хрущев из сорокинского "Голубого сала " на вопрос Гитлера, почему в России не было философии, по-другому констатирует этот факт - отсутствием в России различия ноуменального и феноменального.
5. Организованные бюрократией бабушки и "идущие" с президентом тинэйджеры думают, что противостоят постмодернизму (и неокапитализму в России), сжигая сорокинское "Сало". На самом деле эта зачистка Сорокина - "свое иное" постмодернистского духа отрицания, его разрешившийся хэппенинг и экшн. Реализация метафоры вавилонской библиотеки, в которой путинские хранители морали похожи на читателей, уничтожающих злонамеренные книги.
6. Отказ от понятия "истина" в западной культуре присходит почти одновременно с отказом от Бога. Понятие Истина играет ту же роль в науке и философии, что понятие Бог в религии. Это нерв, центр этих форм сознания, вне Истины и Бога наука и религия разрушаются. Формулы гибели истины и Бога появились рядом: в самой науке (и осмыслившем это событие позитивизме) и ницшеанстве. Лиотар этот отказ анализирует через кризис метафизического обоснования науки, задаваясь вопросом о поисках нового обоснования, новой легитимации науки.
7. Великая формула Спинозы читается сейчас с большим пониманием значения необходимости. По логике языка и противопоставления обывательскому сознанию необходимость представляется более существенной. Между тем, здесь осознанность также важна, как и необходимость.
8. В такой системе исчезает само понимание отличия ценностных суждений (поскольку все пронизано идеологией) от деннотативных суждений. Поэтому распространено суждение, правды нет. И это действительно так: бюрократия монополизировала право на высказывание.
9. Рудольф Карнап. "Преодоление метафизики логическим анализом языка".
| Следующая статья: Елена БЕЛЯЕВА. Не было ни гроша, да вдруг алтын (игры на российском ТВ) |

