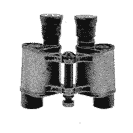 |
| Рубрики |
| Авторы |
| Персоналии |
| Оглавления |
| Авангард |
| М-студия |
| Архив |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
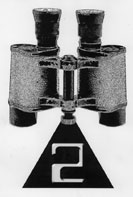 |
 |
 |
| Главная | О журнале | Оглавление | Отзывы |
| Вятский провинциальный текст в культурном контексте |
| К вопросу о вятской самоидентификации |
Изучение локуса изнутри - вопрос самоидентификации. Эта статья - попытка описать и интерпретировать некоторые фрагменты вятской культуры в поисках того особенного, уникального, что могло бы составить вятский текст, аналогичный московскому или петербургскому текстам. Возникает вопрос: неужели за многие годы фундаментальных исследований по вятскому краеведению эта работа не была сделана? Возникает также вопрос: что понимать под локальным мифом или локальным текстом?
 |
В поисках эффективной терминологии
Одной из самых популярных научных тем последнего времени стал «локальный текст». Последние пять лет в политике, науке, разных сферах культуры развертывается воистину провинциальный бум - и это несомненный знак актуальности темы. Смена российской идеологической системы, поиск новой «русской идеи» актуализировали «малые», локальные идеи. Это закономерно привело к научной рефлексии провинциального феномена и выразилось, в частности, в серии провинциальных конференций1, публикациях по «московскому», «пермскому», «тверскому»2 и другим городским столичным и провинциальным текстам.
Одновременно произошло важное смещение исследовательского внимания. Принципиальное отличие от краеведческих конференций недавнего времени: при одинаковом объекте изучения - том или ином топосе - различен подход к провинциальному феномену: не то, что у нас есть или кто у нас был (принцип «выставки достижений»), а чем в целом является то или иное место, каков миф или текст города. Краеведческие исследования накопили огромный материал; задача момента - собрать из этого материала целое, единое понимание локального смысла или системы смыслов. Человеческое сознание принципиально символично, следовательно, краеведение как наука должно стремиться к выявлению базовых символов сознания и архетипических представлений локуса.
Старые идеи русских формалистов 1920-х и семиотиков 1970-80-х годов нашли воплощение в концепции «нового краеведения», одна из проблем которого - поиск эвристически богатых понятий.
Поэтому в первую очередь обратимся к терминологии. История появления и бытования слова «провинция» в России подробно рассмотрена в работе Зайонц3, где прослеживается семантический ореол слова в Петровскую эпоху, при Екатерине II, Александре I, в советское время. Универсальность слова «провинция», а также длительность бытования позволили использовать его в новой исторической формуле - «провинциальный текст»4.
Семантический ореол слова «текст» колеблется от узко лингвистического: текст как «последовательность осмысленных высказываний, передающих информацию» - до широкого семиотического значения: «текст как любая последовательность знаков, построенная по правилам данной системы, объединенных общей темой, обладающая свойствами связности и цельности»5. Новое значение слова «текст» - результат метафорического переноса. Терминологическая инициатива исходила от Лотмана и была закреплена в работах Топорова о «петербургском тексте»6.
Понятие «провинциальный текст» возникло по аналогии, но в результате активного использования в разных научных средах утратило свою первоначальную четкость и теперь может включать в себя разный набор филологических пониманий: «К "провинциальному тексту" относят любое произведение, действие которого происходит в провинции»7, произведения провинциальных авторов и произведения о провинции. В рамках своей работы я возвращаюсь к первоначальной семиотической парадигме - провинциальный текст как определенная осмысленная топонимическая данность, которую можно исследовать в рамках семиотического подхода, т.е. текст как метафора культуры.
Обобщая накопленный в исследованиях последних лет материал, можно заметить, что локальный текст тяготеет к мифу как некой архетипической целостности. Текст и миф описывают некоторый целостный культурный локус в семиотическом, знаковом дискурсе: текст может порождать миф, миф может закрепляться в тексте или текстах. Анализируя «петербургский текст», Топоров называет наиболее общие типы петербургских мифов: миф творения (основной тетический миф о возникновении города), исторические мифологизированные предания, связанные с императорами и видными историческими деятелями, эсхатологические мифы о гибели города, литературные мифы, а также «урочищные» и «культовые» мифы, привязанные к «узким» локусам города8. Названный ряд можно считать универсальным для любого городского мифа. Однако провинциальные городские мифы как правило не обладают такой, как Петербург, степенью разработанности, осмысленности и сформулированности.
Зададимся вопросом, какие исторические и культурные реалии могут рассматриваться как смысло- и мифопорождающие контексты? Какие смыслы выражает вятский текст? Наиболее явно вятская самобытность кристаллизовалась в контексте имени, фольклора, истории (исторических преданий и праздников и ссылки) и места, включающего в себя антитезу «столица - провинция». Представленный ряд является, с нашей точки зрения, не исчерпывающим, но необходимым и достаточным для первого приближения к поставленной проблеме.
 |
Контекст имени: Вятка/Хлынов - Вятка - Киров - Киров/Вятка
Имя фиксирует значение места, закрепляет множественность ассоциативного ряда в едином названии. Знаковый смысл имени не сводим ни к этимологии, ни к историческому контексту, ни к фонетическим ассоциациям, имя «собирает», вбирает в себя произвольный ряд смыслов, создавая единый знак.
История не сохранила точных дат возникновения имён Вятка и Хлынов. Более того, до сего времени остается дискуссионным вопрос, какое из двух названий было первым. Обзор имён, концепций и мнений на этот счет изложен в статье Макарова «Возникновение и первоначальное развитие города» в первом томе «Энциклопедии земли Вятской»9.
Мифологема Хлынова основана на легенде о Холопьем городе. Зеленин, один из первых вятских этнографов, ученый с мировым именем, пишет о переносе на город Хлынов известной легенды, которую древние греки рассказывали о городе Таренте, а английский дипломат XVI века Сигизмунд Герберштейн - о Холопьем городе на реке Мологе: «По этой легенде, город основан был холопами, рабами. Последние, в отсутствие своих господ, воспользовались их супружескими правами, а по возвращении господ в страхе бежали и основали, для защиты, свой город. По крайней мере, автор "Повести о стране Вятской" уже знает эту легенду, обижен ею и критикует ее. "Они же, вятчане, бывшеи новгородцы.., - пишет автор, - называвшася, по их, новгородцев, оставшихся названию, беглецами, в отмщение укоризны их приписаше, что будто им из Новагорода в Вятку бежавшим, сжившимся с женами их, новгородцев, и детей приживших, а им новгородцем будто бывшим на войне, посланным из Великого Новаграда 7 лет"»10.
В 1780 году Екатерина II, учреждая вятское наместничество, меняет имя Хлынов на Вятка. Из именного указа: «Новгородской губернии, городу Хлынову, переименовав оный Вяткою, быть губернским»11. Факт переименования города Екатериной оставляет ряд вопросов. Что именно не устраивало императрицу в старом названии? Почему было дано не новое имя, а перенесено название земли, края на имя города? Как было воспринято жителями такое переименование? Некоторое осмысление этих вопросов можно увидеть в «Былом и думах» Герцена: «Но возвратимся в наш скромный Хлынов-городок, переименованный, не знаю зачем, разве из финского патриотизма, Екатериной в Вятку»12. По всей видимости, Герцен тоже чувствовал холопский оттенок имени и видел главный мотив переименования в патриотическом желании императрицы избежать унижающего город имени и этим возвысить финских по происхождению вотяков, с которыми он, по-видимому, отождествлял всех вятских жителей. О загадочном финском патриотизме Екатерины еще стоит поразмышлять.
Советская власть, как и царская, хорошо понимала мифотворческую власть имени; названия улиц, площадей, городов стали транслянтами революционной идеологии. Имена революционеров вошли в бытовое пространство и в сознание людей. 5 декабря 1934 года постановлением ЦИК СССР город Вятка переименован по просьбам трудящихся в город Киров. Имя Киров закрепило новый смысл города: современный, советский, индустриальный город. Здесь стоит напомнить, что партийная кличка Киров была взята Сергеем Костриковым в память о персидском царе-победителе Кире. Таким образом, на город был перенесен ассоциативный ряд: земляка-революционера, убитого контрой, и персидского царя-победителя.
 |
В 1993 году в городе был проведен референдум о возвращении исторического имени, т.е. Вятки. Население города большинством высказалось за сохранение названия Киров. Выбор зафиксировал здоровый консерватизм, экономическую целесообразность и эстетические предпочтения населения: слово Киров звучит пусть не оригинально, зато монументально и звучно. Отношения старого и нового имени, кроме звуковых ассоциаций, осложнены историческим рядом: патриархальная Вятка - индустриальный Киров - и родовой принадлежностью: екатерининская женская Вятка и советский мужской Киров.
Отказ от замены имени, а точнее, возвращения старого имени, маркирует значимость консервативных советских смыслов вятского самовосприятия. Факт отказа - знак кировской самоидентификации, фиксирующий мужской, индустриальный, монументальный образ города. Такой выбор населения заметным образом не совпал с внешним - столичным и зарубежным - восприятием города, где локус скорее ассоциируется со словом Вятка, чем Киров. Этот факт нашел отражение в картографии: на некоторых картах теперь значится Киров, а на других, слишком быстро прореагировавших на перестройку, - Вятка. В некотором смысле мы вернулись к ситуации двойного названия древней Вятки с тем же предпочтением называть землю в целом Вяткой, а город тогда Хлыновом, а теперь Кировом.
Фольклорный контекст
Очевидно, что в формировании локальной мифологии особое значение приобретают народное сознание и фольклорные тексты как форма памяти этого сознания. Устные предания, присловья, анекдоты сохраняют глубинные слои формирования топонимического текста.
Вятскому краю повезло с великими фольклористами, собравшими и обобщившими огромный материал. Мы воспользовались результатами этой работы и опирались на выводы фольклористов. В наибольшей степени нашим задачам соответствовали исследования Зеленина, которого интересовал фольклор как фиксатор ментальных установок. На основании вятских присловий13 Зеленин выводит следующие черты этноса:
- ротозейство (слепоротая Вятка, вятская ворона);
- простодушие и смирение;
- медлительность движений и ума, «но ума глубокого и тонкого»;
- религиозно-мистическая настроенность (суеверия);
- домовитость (отсюда любовь к кустарным промыслам и лесу - только там крестьянин может найти заработок);
- почтительность, смирение, отсутствие амбиции и самоуверенности («Мы, вячьки, робята хвачьки (т.е. хвацкие): семеро одного не боимся, а один на один, так и котомоцки отдадим»14); простоту, сочетающуюся с умом и сметкой (здесь Зеленин сравнивает вятчанина с Иванушкой-дурачком, который «будучи "дурачком", всегда и везде оказывается в конечном результате первым»15).
 |
Зеленин делает следующий вывод: «В общем результате вятчане рисуются в народных присловьях и анекдотах в симпатичном виде. Над ними подсмеиваются, но это не язвительный, не злобствующий смех, а добродушный, ласковый; по пословице: "над кем посмеются, того и полюбят"»16. Так фольклор зафиксировал наиболее древний, уже вошедший в архетипическое сознание города, образ вятского народа и набор локальных смыслов.
Исторический контекст (мифологизированные предания)
В поиске смыслопорождающих эпизодов вятской истории мы выделили четыре сюжета, исходя, в первую очередь, из их мифогенной функции, и во вторую, из их исторической значимости. Знаком смыслопорождения мы считали закрепление события в празднике - религиозном, государственном, фольклорном. Праздник маркирует сакральность исторического факта, он возвращает к той точке истории, которая сохраняет значимость и по сей день. Праздник включает повторяемый ритуал, транслирующий в современность прошлые, иногда забытые, утраченные смыслы. Поэтому становится важно не только то, какие события истории фиксируются в празднике, но и как - в каких формах, с каким размахом - это происходит.
 |
- Легенда о поселении новгородцев в вятской земле - первый смысловой узел. «Нет ничего в русской истории темнее судьбы Вятки и земли ея. Начало этой колонии летописец Вятской земли относит к 1174 (6682) г.»17. Событие, возведенное в категорию чуда, на первый взгляд имеет сугубо случайный и бытовой характер: по реке принесло брёвна - обыденный факт. Но мотивацию этот факт получает не профанную, а сакральную. Вятчане интерпретируют это событие не прагматически - появился по природной случайности строительный материал, а как знак высшего благословения. Так в основе творения города оказывается свое Вятское чудо. В советское время эта мифологема не получает распространения и условной датой рождения города был признан 1374 - время первого упоминания города в летописях. С этой датой был связан главный исторический праздник - 600-летие Вятки в 1974 году. Конфликт двух дат основания - 1174 года (по «Повести о стране Вятской») и 1374 года (по упоминанию в летописях) на сегодняшний день решен в пользу советского варианта. Книга Анатолия Тинского «Улицы, площади, дома. Вятка. Страницы истории» (1999) посвящена 625-летию города, хотя наиболее научно убедительным и подтвержденным археологическими раскопками признаётся 1174 год18.
- С новгородской темой связан один из основных, по сей день актуальных сюжетов вятской культуры - святой ход на реку Великую. Легенда гласит, что перенесенная новгородцами при поселении икона Николая Хлыновского исчезла, а потом снова появилась в 50 верстах на Великой реке. «Крестный ход на Великую - с той поры - главный вятский духовный праздник», - констатирует Герцен в «Былом и думах»19. Герцен описывает приезд наследника престола, будущего императора Александра II, и связанный с этим перенос главного религиозного праздника, чтоб «им потешить наследника»: «Государь, прочитавши, взбесился и сказал министру внутренних дел: "Губернатор и архиерей дураки, оставить праздник, как был". Министр намылил голову губернатору, синод - архиерею, и Николай-гость остался при своих привычках»20. Презентация этого праздника властям оказывается актуальной и по сей день - мы помним приезд полномочного представителя Президента в ПФО Кириенко на реку Великую в 2001 году.
- Битва 1392 года с устюжанами, когда вятчане побили устюжан, приняв их за татар. Отсюда прозвища слепороды и свистоплясы. Отсюда пошла и вятская свистунья - первоначально день поминовения убитых, который по языческим обычаям сопровождался свистом и плясками (свистунья первоначально называлась «свистопляска»). Этот смысловой узел организует ряд анекдотов о вятчанах и Праздник вятской свистуньи. С этим же сюжетом связан один из наиболее ярких знаков вятской культуры - дымковская игрушка, развившаяся из погребального языческого обычая свистеть, отпугивая злых духов, и бросать куски глины.
- В 1780 г. Екатерина II составляет «Учреждения для управления губерний Всероссийския империи», по которым вятская земля становится сначала наместничеством, а потом губернией, а город Вятка приобретает статус губернского. В царское время именно эта дата считалась главным историческим событием, что нашло отражение в пышных празднествах по поводу 100-летия Вятской губернии.
В рамках статьи мы не будем рассматривать отношения между этими праздниками: очевидно, что на доминирующее положение каждого из них оказывал и до сих пор оказывает влияние идеологический контекст времени. Праздник становится катализатором определенных идеологических установок.
Ссыльный контекст
Важной составляющей вятского исторического дискурса является ссылка. Среди памятных дат 2001 года - 400-летие вятской ссылки. В эпоху застоя бытовала шутка: «Даже железный Феликс не выдержал вятской ссылки - сбежал».
В XIX-XX веках Вятка была традиционным местом ссылок. «1 июля лета 7109 (11 июля 1601 г.) по указу царя Бориса Годунова был сослан в Яранск стольник Василий Никитич Романов, дядя будущего царя Михаила Романова. <...> Систематическая политическая ссылка в Вятскую губернию началась с царствования Николая I. Первым в 1827 г. был сослан Н.Р.Тюрин. Его вина состояла в том, что он, будучи 16-летним мальчиком, слышал противоправительственные разговоры лиц, состоявших в тайном обществе братьев Критских. Всего с 1827 по 1905 гг. было сослано, по данным П.Н.Луппова, 1206 чел., с 1906 по 1913 гг. - свыше 5 тысяч человек. В Вятском крае отбывали ссылку известные общественно-политические деятели и писатели: А.И.Герцен, В.Г.Короленко, М.Е.Салтыков-Щедрин, Г.Каменьский, Ф.Э.Дзержинский, Ф.Ф.Павленков, В.В.Воровский, А.Н.Потресов, П.И.Стучка, Н.Э.Бауман, Ян Райнис и другие»21.
 |
Если фольклор выявляет внутренние характеристики вятской самобытности, то ссыльный контекст для Вятки - это контекст внешней культуры, обогащавшей и обновлявшей Вятку. Ссыльным архитектором Витбергом (10 лет в вятской ссылке) был построен Александро-Невский собор, созданы решетки и ротонда Александровского сада (Александровская тема для Витберга была лично актуальна: уже в бедности, сломленный невзгодами, он гордился пожатой императором рукой). При активном участии Герцена (ссылка в 1835-37 годах) открыта публичная библиотека. Салтыков-Щедрин за 8 лет ссылки многое сделал для борьбы со взяточничеством, организовал Вятскую сельскохозяйственную выставку - одну из самых больших в России - и, явно вспоминая Вятку, написал «Губернские очерки» и «Историю одного города», увековечив образ провинциального города в истории русской литературы и особенно точно выразив местную специфику. Неслучайно отрывок из «Губернских очерков» стал хрестоматийной, почти визитной карточкой старой Вятки.
Контекст места
В «Губернских очерках» Салтыков-Щедрин пишет: «В одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу. Не то, чтобы он отличался великолепными зданиями, нет в нем садов семирамидиных, ни одного даже трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряде улиц, да и улицы-то все немощеные; но есть что-то мирное, патриархальное во всей его физиономии, что-то успокаивающее душу в тишине, которая царствует на стогнах его. Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни, что вам остается только жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания. И в самом деле, из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру»22.
Формула «конец миру» вполне могла бы стать мифологемой вятского мировосприятия. Однако отсутствие такой мифологизации является, на наш взгляд, важным знаком неприятия всякой чрезмерности, предельности, эсхатологичности. Вятский миф лишён избыточности, энергии. Он не порождает энергию, а поглощает её. Его патриархальная простота ускользает от описания. Признаки вятской характерности как будто не складываются в общую картину. Всё уравновешено, гармонично, неярко. Таким образом, Вятка порождает мифологию обыкновенного, нормального, патриархально устойчивого. Внешний взгляд на вятский текст заметно не совпадает с внутренним, а двойственность имени города Вятка/Киров закрепляет это несовпадение.
Пространственная отдаленность от столицы, леса, морозы, плохие дороги - всё это составляет существенную часть вятской мифологии. Преосвященный Никодим Казанский в записках в 1845 году пишет: «Там такая бездна лесу, что больше половины губернии можно назвать сплошным дремучим лесом»23. Лесной мотив вятского текста связан с развитием промыслов, торговли и процветанием Вятки в целом. Именно леса сделали привлекательными вятские земли для первых новгородцев как естественная защита, и именно вследствие удалённости, малопроходимых лесов и плохих дорог Вятка долго сохраняла независимость. В литературе XVIII-XIX веков был широко распространён сюжет о новгородской независимости, между тем Вятка, наследовав нравы и политическое устройство Новгорода, дольше оставалась свободной, что сохранила фольклорная память: «В Вятке - свои порядки». Однако мотив порядков и независимости включает уже другой - столичный контекст вятского текста.
Столичный контекст
 |
«Мальчик из Уржума» - так называлась книга Голубевой о С.М.Кирове, включенная в обязательные списки для внеклассного чтения средней школы, а значит, известная абсолютному большинству жителей города. Формула названия фиксирует типичную провинциальную схему: никому не известный мальчик (не Сережа Костриков, а просто мальчик, один из многих) уезжает из Уржума (малая родина, неизвестный городок) и становится одним из вождей большевиков, великим КИРОВЫМ. И Герой даёт имя не своему маленькому городу, а областному центру - масштаб личности укрупняется и в акте наименования. Обратно мальчик уже не возвращается, возвращается легенда, памятник улыбающегося человека в военной форме и кепке, простирающего руку куда-то в светлое будущее.
Гостеприимный монумент, стоящий в центре города на Октябрьском проспекте, простирает руку в сторону вокзала: светлое будущее где-то там. Российская глубинка рождать собственных Платонов или Ньютонов, конечно, может, но вот чтобы ими стать, нужно уехать из провинции. Именно так происходило со всеми именитыми земляками: Ермил Костров - поэт не провинциальный, а московский; братья Васнецовы, Александр Грин, космонавт Савиных - все они стали известными вне вятского локуса. Универсальность такой схемы закреплена культурным опытом многих поколений и не теряет своей актуальности.
 |
Российская провинция, начиная со времени объединения русских земель под Московским князем, не обнаруживала своей самодостаточности, она нуждалась в столичном контексте как главной смысловой доминанте. Взаимоотношения этих двух локусов всегда были центростремительными24 и до сего времени не являлись диалогом равных: столица выслушивала, утверждала, давала директивы - провинция просила, рапортовала. Проницаемой эту коммуникативную ситуацию делал код власти. Именно власть диктует данный тип отношений, и они разрушаются, как только властная вертикаль ослабевает (период революций 1917 и 1991 годов). И в эти периоды, так же, как в периоды войн, вступает в силу другая схема отношений, которую можно условно обозначить как код спасения. В переходные эпохи провинция становится зоной стабильности и для столицы выступает как место спасения, откуда черпаются материальные и человеческие ресурсы.
Возможно, развёртывание и осмысление провинциального текста в ситуации информационной глобализации, новой региональной политики - симптом смены культурной доминанты. Возможно, в будущей России, как сейчас на Западе, столица перестанет быть единственной Меккой и русский мир тоже станет многополярен. И тогда такие понятия, как казанская культура или вятская культура, будут столь же активными полюсами притяжения, как московская и петербургская культуры сегодня.
Наталья ОСИПОВА, канд. филол. наук, доцент ВГГУ
-
примечания:
- Вот некоторые из Международных научных конференций. 1998: Тверь. «Провинциальный текст в русской художественной культуре». 1998: Переславль-Залесский. «Малые города России: проблемы истории и возрождения». 1998: Екатеринбург. Дергачевские чтения-98 «Русская литература: национальное развитие и региональные особенности». 1999: Елец. «Русская провинциальная культура: текст - миф - реальность».
- См.: Шапир М.И. Об одном анаграмматическом стихотворении Хлебникова: К реконструкции «московского мифа» // Русская речь. М., 1992, N 6; Доманский Ю.В. «Провинциальный текст» ленинградской рок-поэзии // Русская рок-поэзия: текст и контекст. Сборник научных трудов [Выпуск 1]. Тверь, 1998. С.69-86; Абашев В.В. Пермь как текст. - Пермь, изд-во Пермского ун-та, 2000.
- Зайонц Л.О. «Провинция» как термин // Русская провинция: миф - текст - реальность. М., СПб., 2000. С.12-20.
- Заметим, что активно бытующее в политике слово «региональный» в научном обиходе было вытеснено определением «провинциальный», видимо, как раз благодаря универсальности, широте семантики и историческому бытованию.
- Руднев В.П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., «Аграф», 1997. С.305.
- Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Семиотика города и городской культуры: Петербург. Тарту, 1984. С.33 (Учен. зап. Тарт. гос. ун-та; Вып. 664); Топоров В.Н. Петербург и петербургский текст русской литературы (Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Избранное. М., 1995.
- Доманский. Ю.В. «Провинциальный текст» ленинградской рок-поэзии // Русская рок-поэзия: текст и контекст. Сб. научных трудов [Выпуск 1]. Тверь, 1998. С.69-86.
- Топоров В.Н. Петербург и петербургский текст русской литературы (Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Избранное. М., 1995. С.348.
- Макаров Л.Д. Возникновение и первоначальное развитие города // Энциклопедия земли Вятской (далее ЭЗВ). Т.1. Киров, 1994. С.10-34.
- Зеленин Д.К. Народные присловья и анекдоты о русских жителях Вятской губернии (Этнографический и историко-литературный очерк) // Зеленин Д.К. Избранные труды. 1901-1913. Статьи по духовной культуре. М., «Индрик», 1994. С.89. Пунктуация цитаты выправлена по первоисточнику: Свод летописных известий о Вятском крае. Составил А.Спицын. Вятка: В губернской типографии. 1883. С.13. Орфография здесь и далее приведена в соответствие с современной.
- Именной указ, данный сенату 11 сентября 1780 г. // Столетие вятской губернии. Сборник материалов к истории Вятского края. Т.I. Вятка, 1880. С.1.
- Герцен А.И. Собр.соч. в 8-и томах. М., 1975. Т.4. С.281.
- Термин присловье не определен четко ни в народной, ни в научной традиции. Д.К.Зеленин относит к присловьям произведения разных жанров: дразнилки, прозвища, поговорки, пословицы, краткие анекдоты. В настоящее время как правило фольклористы понимают под «присловьями» поговорки и присказки. В.И.Харитонова. Комментарии // Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. М., «Индрик», 1994. С.307.
- Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. М., «Индрик», 1994. С.82.
- Там же. С.83.
- Там же. С.84.
- Легенда цит. по: Столетие вятской губернии. Сборник материалов к истории Вятского края. Т.I. Вятка, 1880. С.53.
- Подробно о всех существующих мнениях см.: Макаров Л.Д. Возникновение и первоначальное развитие города // ЭЗВ. Т.1. В статье Макарова Л.Д. «Русские поселенцы на берегах Вятки (По данным археологических исследований)» (ЭЗВ. Т.4. Киров, 1995. С.76-91) убедительно доказано на основании последних археологических находок, что первые поселения относятся к ХII веку, и, следовательно, 1174 год, данный в «Повести о стране Вятской», должен считаться верным. Однако в той же ЭЗВ в качестве отправной точки исторических событий дан 1374 год, видимо, как устоявшаяся, официально признанная дата (Кокурина С.П. Хроника событий // ЭЗВ. Т.1. С.87-101).
- Герцен А.И. Собр. соч. в 8-и томах. М., 1975. Т.4. С.283.
- Там же. С.285.
- Памятные даты Кировской области на 2001 год. Библиогр. указатель. Составители Н.П.Гурьянова, А.А.Марков. Киров, 2000. См. также Луппов П.Н. Политическая ссылка в Вятский край. М., 1933; Бердинских В.А. Вятлаг. Киров, 1998.
- Салтыков-Щедрин М.Е. ПСС. Петроград. 1918. Т.3. С.5.
- Цит. по: ЭЗВ. Т.1. С.107.
- Кажется, впервые об этой проблеме написал Салтыков-Щедрин, представив в «Дневнике провинциала в Москве» пародийный проект отставного корнета Петра Толстолобова «О необходимости децентрализации». Этот текст пародирует официальные указы по форме, а по содержанию ставит актуальную для России проблему. Несоответствие масштаба проблемы масштабу решения - один из источников комического.
|
|
| Следующая статья: Борис КИР: «Три цвета моей философии» |



