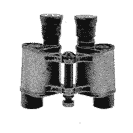 |
| Рубрики |
| Авторы |
| Персоналии |
| Оглавления |
| Авангард |
| М-студия |
| Архив |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
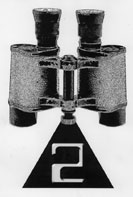 |
 |
 |
| Главная | О журнале | Оглавление | Отзывы |
| Александр Клоков: «Фантасмагория нашего времени» |
| Интервью главного режиссёра Театра на Спасской |
|
|
Его альтер эго
- Кто из актёров - Ваш лирический герой, Ваше «второе я»?
- Это в зависимости от пьесы: всё равно становишься таким, про кого ставишь, кем хочется в данный момент существовать. Здесь есть момент вживания: стараешься поверить в условия игры данного героя и понять, через кого ты его транслируешь. Точного рупора, наверное, не может быть. Через Сашу Королевского выразились Алан из «Эквуса» и Холден из «Над пропастью во ржи»: это его материал - выразить сложную внутреннюю жизнь тусовочного тинейджера с комплексами и конфликтами. И Королевский делает это очень интересно: за всей лёгкостью существования героя читается неординарность и неоднозначность.
С Сашей Коровиным возникло раньше - со спектакля «В списках не значился». Он человек очень оппозиционный и актёр органичный на уровне кино. Когда мы снимали «Сторожа», за ним было интересно наблюдать: настолько он в роли существует, что у него зазора нет - такое ощущение, что роль - про него. Потому это и в «Гамлете» было важно. Мне не хотелось ставить про красивого Гамлета: такого Гамлета в жизни не может быть. Кто может задаваться сегодня гамлетовскими вопросами? Прежде всего умный, одинокий, парадоксально мыслящий, негромкий, нетусовочный человек. Поэтому в этой роли - Саша Коровин, сам немного затворник.
В какие-то моменты возникал Толя Свинцов - булгаковский Мольер, Дон Кихот, Сирано де Бержерак, герой «Талантов и поклонников», «Газеты "Русский инвалид"...»: Свинцов очень чувствует театральную форму и привносит личностное начало в каждую роль. С кем-то совместная песня еще не спета, например, с Володей Грибановым.
- У Грибанова в основном инфернальные роли: Мефистофель в «Маленьких трагедиях», Великатов в «Талантах и поклонниках», Дракула в спектакле Ишина...
- Нет, он разным может быть. У нас с ним была очень интересная работа - «Предместье» Вампилова, когда он играл Бусыгина. Неправда, что Грибанов может играть только отрицательные роли: скорее, мы его просто чаще так использовали. Наверное, фактура его даёт такую окраску. Но Бусыгин у него был очень сердечный, тонкий душевно. Вообще у Королевского и Грибанова - хорошая саратовская школа психологического театра: оба они из Саратова, там крепкое училище.
Сон о гофманиане
 |
 |
 |
| Циннобер. Эскиз костюмов (художник Н.Шаронов) |
- Почему не дошла до премьеры Ваша постановка Гофмана?
- С Гофманом у нас как-то не получилось. Очень жаль... Причём мы входили в него дважды: сначала с Колей Шароновым, потом с вятским художником Димой Лобашевым. Начинали репетировать, но не произошло. Первый раз - жалко, потому что у нас было очень цельное решение, но материально это оказалось сложно и неподъёмно. Хотя сейчас кажется, что если бы мы очень захотели, то, может быть, и случилось бы. Сейчас, допустим, «Сирано де Бержерак» ненамного проще, чем был Гофман: у Лены Авиновой - очень трудоёмкая, сложная по монтировке декорация.
С Шароновым у нас была очень интересная версия соединения сказки Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» и киносценария Тарковского «Гофманиана». И нам хотелось протянуть вот эту линию авторскую - Гофмана, который спивается, вываливается из кареты, то есть момент последних дней жизни, когда в его сознании, воображении развивается странная фантасмагория. И нам хотелось ее не как сказку ставить, а как некий сон-реальность, когда персонажи из жизни становятся персонажами истории этой сказки. И сама история для героя - очень больная с точки зрения мира, а мне казалось, она очень современна с точки зрения жизни: хотелось показать цинноберизм как явление, то есть когда люди принимают что-то за что-то, а это на самом деле, грубо говоря, не есть то, чем оно является, - короче, кажущееся и действительное. Хотелось по жанру и по средствам существования найти некий другой язык, там было много сложных задумок.
- Это было еще до прихода Путина?
- Да, 98-й, 99-й годы - та самая жизнь, которая к этой пьесе имела прямое отношение. Был сплошной телевизор, который люди смотрели и обманывались. Ситуация в стране была достаточно переломная.
- «Циннобер» сорвался из-за финансовых проблем?
- Был задуман театр в театре: во всё зеркало сцены - стена из гигантских окон и камина, которая по туннелю должна была двигаться на задник. Предполагался сварной туннель с четырьмя громадными дверями с каждой стороны. Но когда всё просчитали, оказалось, что это не по деньгам и не по исполнению. Было очень обидно: мы репетировали, у Саши Коровина очень интересной обещала быть роль крошки Цахеса, и вообще возникало много ролей, которые могли в результате стать интересными. И по музыке мы задумывали интересно, и с пластикой внутри спектакля...
А второй раз мы начинали «Циннобер» с Димой Лобашевым, который делал «Три сестры» в постановке Ардашева. Нам хотелось немножко легче сделать оформление, но в результате оказалось трудно уйти от решения, которое уже было. Лобашев придумывал интересные вещи, и вроде надо было всё менять, но мы прекратили работу, потому что я его тащил туда, куда мы уже ходили, а ему хотелось совсем другое. А у меня это не связывалось: возникал какой-то другой спектакль, и уходило то, про что мне хотелось поставить.
Энергия непредсказуемости
- Как Вы считаете, из чего складывается энергетика спектакля?
- По-разному. Тут несколько путей. С одной стороны, это путь совпадения многих составных: и актёрской, и того, как раньше говорили, для чего мы это ставим, кому мы чего доказываем, с чем мы в конфликте, - когда те, кто по ту сторону зала, настолько существуют в этой теме изнутри, что они в общем-то ее и отстаивают, и присваивают. Даже если это лиричный спектакль, всё равно люди в этом существуют и хотят в этом, присвоив себе, состояться - уже энергетика возникает.
Иногда это, как, допустим, у Андрея Жолдака в «Чайке», жёсткое режиссёрское построение: он монтирует составные эпизоды, как в театре Марка Захарова, когда спектакль есть монтаж сцен, когда режиссёр не может позволить, чтобы спектакль просел, когда всё время идёт направленный на зал энергетический сгусток и режиссёрских, и актёрских неожиданных приспособлений. Мне кажется, Захарову это особенно удавалось с Гориным, когда Горин давал острый, остроумный текст на уровне анекдота, едкой шутки, перекликавшейся с нынешним днем, и в людей это хорошо попадало энергетически.
Иногда это завязано на внешние средства выразительности, динамику пластики, музыки, света. Мне кажется, это в зависимости от цели, которую преследует театр, и от того, что это за пьеса: иногда и в тихих спектаклях энергетика бывает внутренне мощная, когда люди очень хорошо понимают, про что они играют, кто они такие, не ремесленно изображая кого-то, как ряженые, или пользуясь штампами. Единственно, что в зале всегда настоящую энергию чувствуешь: если она есть, то её чувствуешь, а если её нет, то чувствуешь её отсутствие. Допустим, возникают два исполнителя на роль - им одно и то же говорится, одно и то же репетируется, но в одном актёре, скажем, есть энергия, а в другом - её нет. И тут уже вопрос индивидуальности.
Или в одном и том же спектакле: идёт какая-то сцена, и в ней есть энергетика, а потом начинается другая сцена и проваливается, потому что в актёре что-то не разбужено в себе - кто я и откуда иду, чем живу. Или возникает какое-то ненастоящее театральное волнение, в котором тоже энергетики нет. Сегодня для меня важно, насколько режиссёру удаётся разбудить актёра, насколько ему удаётся самому быть взбудораженным пьесой, и это твое волнение должно передаться актёру, а он ещё должен передать зрителю и как-то это простроить, чтобы было неожиданно. Сегодня, как оказывается, и нервы людей, и клиповое мышление свою роль сыграли, и ритм сегодняшний роль сыграл, когда человек идёт за ритмом театра. Сегодня думаешь: мы ставили много лет назад «Чайку», а сегодня надо ставить ее как-то острее, и жёстче существовать для того, чтобы быть понятым.
Мне кажется, энергетика - в непредсказуемости, когда мы не знаем, как это выразит человек. Иногда энергетически что срабатывает? У Захарова очень хорошо описано в книге: идёт собрание в СТД, и все выступают, выступают. И очередь до какого-то актёра доходит, он говорит: «Сейчас я скажу, только вначале я таблетку выпью». И он таблетку достаёт, воду пьёт, и все притихли, возникло внимание к нему. Потом он тихо-тихо начал говорить по делу. И вот эта пауза, пока он пил таблетку...
Захаров описывает, как однажды в «Современнике» поднялся занавес, а на сцене пожарник ходит. Он не поймёт, что зрители уже в зале, свет погасили и занавес открыли, а он ходит и проверяет, всё ли отключено. Если актёра попросить, самого народного и заслуженного, он никогда так не пройдет: начнёт что-то играть. А этот походил-походил: всё вроде отключено, - и ушёл. И все были в шоке: как интересно спектакль начался! И Захаров пишет: как трудно потом актёру объяснить, что ему нужно на сцене играть, ему просто надо проверить - вот это, вот это, вот это. А на зал это действовало, внимание сразу появилось: вроде там что-то происходит. Весь фокус - в неожиданности, в непредсказуемости выразительных средств.
В горинско-захаровском «Шуте Балакиреве» играет тот актёр, который к нам приезжал - в «Мастере и Маргарите» у него была роль Жоржа. Он играет шута Балакирева, прекрасно играет: настолько живой и непредсказуемый, что в таких случаях мы говорим: он энергетически держит зал, у него нет ни одной секунды пустой, нет пустот. Поэтому рядом с ним все сцены - плотные по общению...
Ностальгия по простоте
- Находите ли Вы как модернист контакт с сегодняшним постмодернистским поколением?
- Мне кажется, наоборот, сегодня у многих есть ностальгия по цельности. Я это ощутил в Москве: мы показали «Таланты и поклонники», очень традиционный спектакль без всяких фокусов. На него приходили молодые, всяко-разно накрученные, но сегодня и они хотят серьёзного, простого театра. Потом мы с ними говорили, и с художницей Леной Авиновой, которая учится в Питере, говорили: на какие спектакли сейчас ходят? На те, которые без всяких заморочек. И я понимаю, почему: хотят чего-то простого, нормального и естественного. Мне кажется, такое время еще больше наступит, потому что уже есть усталость от всяких подмен. Всё равно у людей остаётся природа неизменная, это вокруг всё меняется, отчего можно устать: когда и так можно, и этак.
В Москве на театральной Олимпиаде играли три «Чайки». На «Чайке» Додина произошёл провал - ждали много, а получилось занудно, скучно и не особенно убедительно. У Жолдака спектакль в чём-то неожиданен, интересен, но тоже не стал до конца убедительным: это его взгляд на «Чайку» - Харатьян, допустим, в роли Дорна, но почему именно Харатьян? Ну, авангардный спектакль - его Жолдак и подавал в виде авангарда. На Западе таких спектаклей много, в Москве - мало, этим он и был неожиданен.
И вдруг приезжает французский театр и тоже привозит «Чайку». Когда она началась, было ощущение, что это мхатовский спектакль, - многие даже собирались уходить. Но чем дальше его смотришь, тем больше понимаешь, насколько это по-настоящему, насколько завораживает. В финале приходит Нина в мужском пиджаке, немножко пьяная, такой я её никогда не видел - по реакции, по узнаваемости, причём это Нина, прожитая сегодня, и ни одного слова Чехова не сокращено. Чайка уходит на дно этого озера, и все погружаются, как в воду, в бесконечность, в неизменность: там ничего не изменить - те, которые хотели куда-то взлететь, все они, как чайки, медленно идут на дно, декорация к финалу освобождается.
И это потрясение было у всех одним из самых сильных впечатлений Олимпиады - наряду с «Отелло» Някрошюса и 75-летним актером в итальянской комедии дель арте (когда после кульбитов он снял маску и все увидели его лицо). Мне кажется, всё равно людей будет всегда что-то потрясать. Другое дело, что это очень трудно - дойти до такой степени остроты, чтобы это било по мозгам, выйти за границу традиционности, профессионализма, переживания - куда-то в более простое, внятное, доступное.
Время подмен
- Как Вы ощущаете сегодняшнее время?
- С одной стороны, я вижу многих людей, которые идут в завтра, и мне кажется, что у них есть какой-то оптимизм, но с другой стороны, мир настолько заврался и вообще всё зафальшивилось до такой степени, что людям, чтобы очиститься от самих себя, от каких-то понятий, надо на несколько десятилетий умолкнуть и вообще никаких слов не произносить. Сейчас нет ощущения важности, какой-то глубины, проникновения во что-то - много видишь имитации, всё начинает мериться на материальные единицы. Будут деньги платить, можно и во что угодно поверить. Нужно что-то за деньги говорить - многие говорить будут, хотя, может быть, для них это и не близко. Колоссальный разлад между душой человека, головой, действиями и чувствами.
Мне безумно понравился спектакль Някрошюса: его не волнует, понравится он или не понравится, что о нём напишут. Мы с ним учились в одно время, в общежитии вместе жили, дружили и вместе ездили в Вильнюс. Прошло много лет, он стал Някрошюсом, известным всему миру, но человечески не изменился: каким был, таким и остался. Я могу к нему прийти перед спектаклем, так же поговорить, покурить, так же посидим, то есть он не стал амбициозным, как многие окружающие. Он серьёзно, нормально работает, и в этом есть адекватность себе, какая-то честность.
Настоящая правда, естественность и свобода - это долго будет обретаться, накапливаться понимание, что такое быть свободным, независимым, непохожим, что это не только внешняя форма проявления, а какая-то глубокая внутренняя работа, внутренняя сущность. Сейчас оказалось необязательно что-то знать, читать, понимать, что-то уметь: во всём какая-то приблизительность, подмена. А кому-то это нравится...
Раньше была четко очерчена дорога: вот колея, вот обочина. А сейчас то, что было на обочине, стало колеёй, а то, что было колеёй, стало обочиной. Всё смешалось - в результате коррумпированности, конъюнктурности, когда путаются понятия, что есть что, что хорошо, что плохо. Поражаешься, что кто-то вообще чем-то серьёзным занимается. Когда вспомнишь обо всём этом, подумаешь: заниматься театром - зачем?
Михаил КОКО
 Гамлет (А.Коровин) |
 Дон Кихот (А.Свинцов) |
| Следующая статья: Черт Гоголя мутировал в Дракулу Стокера «Дракула» в Театре на Спасской |


