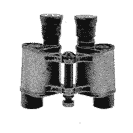 |
| Рубрики |
| Авторы |
| Персоналии |
| Оглавления |
| Авангард |
| М-студия |
| Архив |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
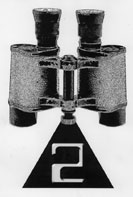 |
 |
 |
| Главная | О журнале | Оглавление | Отзывы |
 Психоаналитик Сьюард (А.Матюшин) предохраняется от Дракулы с помощью креста |
 Радикальное средство против вампира - осиновый кол. Ван Хелсин (А.Свинцов) и Дракула |
| Черт Гоголя мутировал в Дракулу Стокера | |
| «Дракула» в Театре на Спасской | |
 |
| Ван Хелсин обращает в свою веру фаната Дракулы - Ренфилда (И.Никулин) |
 |
| Дракула воспитывает секретаршу Глэдис (Т.Махнёва) |
К юному зрителю на Спасской явился Дракула. Режиссер Вячеслав Ишин поставил самую известную в мире «страшилку для взрослых», и серьёзные актеры самозабвенно и с явным удовольствием играют в разную нечисть.
Ишин уже лет пять успешно работает со сказками - народными и авторскими, где есть волшебство, солдаты и принцессы, джинны и Аладдины, и пр. Он создаёт на сцене условное игровое поле, придумывает фокусы типа гигантских чудовищ с горящими глазами. А в финале каждого его спектакля ложь закономерно становится поводом для моральных уроков.
Но игровое поле (искусство, понятое как игра) традиционно связано с романтизмом. И закономерно, что у Ишина после сказочных детских спектаклей появилась гоголевская «Ночь перед Рождеством» (2001). Правда, увлекшись всяческой чертовщиной, режиссер не преминул позаботиться о том, чтобы вся эта предрождественская театральная смута не столько пугала зрителя, сколько веселила, забавляла. Когда человек смеётся, ему не страшно, тем более накануне Рождества, которое неотвратимо.
Выбор Ишиным пьесы Гейла Корнелиссона «Дракула» на сюжет Брэма Стокера удивил многих. Известно, что Стокер еще в конце XIX века адаптировал для бульварного чтива традиции готического романа -жанра, построенного на принципе необъяснимости зла. Не случайно Дракула в романтической культуре олицетворяет страх перед имперсональным (безличным) злом. А в искусстве экспрессионизма этот сюжет об обитателях загробного царства, тема оборотня-мертвеца, вовлеченного в непрерывный цикл ужаса, и вовсе не обещает безусловной победы добра над злом, которое выше и сильнее человека. Хочется понять: зачем сегодня в детском театре испытывать неокрепшие души, провоцировать страх перед необоримой инобытной силой?
Мы помним, что в искусстве соцреализма были активно отрефлексированы шпионские заговоры и ядерная угроза, которые трактовались как идейно чуждые нам явления, как зло, грозящее извне. И вместе с тем как бы предполагалось, что советскому человеку неведом индивидуальный страх: в сознание он просто не допускался. Все архетипы страха подчинялись задачам строительства светлого будущего.
Даже мотив «неведомого» (типа «Человека-амфибии» Александра Беляева) для строителя коммунизма становился «поводом для социального оптимизма - в том смысле, что нам нет преград ни на земле, ни в космосе. Люди своим коллективным умом и нравственными качествами всё преодолевают» (Сергей Добротворский). Жанр ужаса не нашел своего места в советской культуре.
И вот на нашей провинциальной сцене - абсолютно частная вампирская история, в которой трудно угадать социальную подоплёку. Забавно, что в спектакле действие разворачивается в психиатрической клинике - стерильной и одномерной настолько, что здесь абсолютно исключаются, казалось бы неизбежные, ассоциации с совком, с нашей родиной как дурдомом - заигранной метафорой постсоветского театра. Более того, в этом спектакле вообще нет театрального контекста - провинциальный зритель его не знал, не знает и знать не будет.
Кажется, граф Дракула пришел к юному вятскому зрителю прямо из американского кино (как, впрочем, и для западной сцены пьесы о предводителе вампиров и Призраке ночи были написаны в основном под впечатлением не от литературных первоисточников, а от фильмов Мурнау и Броунинга). Наш местный аристократ-вампир в исполнении Владимира Грибанова не обманывает ожиданий, потому что, на первый взгляд, он - абсолютный клон придуманного режиссером Фрэнсисом Копполой и актером Гэри Олдмэном героя («Дракула Брэма Стокера», 1992). Но, в отличие от своего западного оригинала, вятская нечисть лишена реальных черт, самодовольна и свободна от рефлексий на темы мировой культуры.
Известно, что каждый зритель испытывает тот страх, который он ожидает. Так, по словам Добротворского, экспрессионистов (типа Мурнау и Линча) «страх подводил к краю умопостигаемой реальности и в конечном счете был аргументом в пользу презрения реальности как галлюцинации, как временного пристанища духа». А вот в американском кино 30-х годов Дракула персонифицировал страх перед обыденностью: одномерный буржуа или клерк попадал в абсурдную, грозящую кошмаром ситуацию («Дракула» Тода Броунинга, 1931).
Показательно, что для воплощения наших сегодняшних страхов в основном используются мифология и жанровая оболочка, пришедшие с Запада. Так, в программке к спектаклю Ишина заявлено: пьеса сочетает в себе психологический детектив и мистический триллер - западные жанры. Но, по большому счету, «Дракула» на Спасской - это лишь забавная пантомимическая сцена убиения Призрака ночи в его склепе с помощью осинового кола. Всё остальное - жалобы пациентов клиники на слабость, сеансы гипноза, постоянное присутствие в обыденности некоего второго плана, теней и потусторонних голосов - принципиальны, но, к сожалению, тольно намечены.
И всё же зрители активно откликаются на действие. Когда Мина (Ирина Гордеева) отдаёт Дракуле свой оберег-крест, некоторые подростки испуганно вскрикивают, другие над ними смеются. В целом, довольны все. Известно, что страх в искусстве смыкается с целой цепью механизмов зрительского ожидания. И в мировой культуре «ужас» давно стал коммерческим, по-настоящему массовым жанром, своего рода средством массовой компенсации. Так, «ужас» времён Великой депрессии примирял американского зрителя с реальностью, выполнял те же функции, что и расцветавшие в то время мелодрамы и мюзиклы, - снимал стресс, ослаблял социальное напряжение.
Понятно, что сейчас у нас в Вятке, как и по всей стране, ситуация социально неустойчивая, способствующая накоплению индивидуальных страхов. Потому важно найти эстетический эквивалент страха, дать зрителю возможность выплеснуть накопившиеся эмоции и успокоиться. И нужно для этого совсем немного - мифологический сюжет, победа добра над злом и скромный вывод в финале: мир вполне устойчив, только нужно знать, как защищаться от всего иррационального.
Елена БЕЛЯЕВА
| Следующая статья: Нужна ли нам свобода? Ответ Горбушину |

