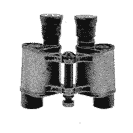 |
| Рубрики |
| Авторы |
| Персоналии |
| Оглавления |
| Авангард |
| М-студия |
| Архив |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
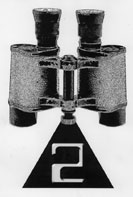 |
 |
 |
| Главная | О журнале | Оглавление | Отзывы |
| Чайка меняет кожу |
| Б.Акунин. «Чайка» («Новый мир», 2000, N 4) |
 |
Чучело чайки на занавесе МХАТа заклевало не только главных героев «Чайки» и «Иванова», но и чешского режиссера-авангардиста Петра Лебла, показавшего эти спектакли на театральных фестивалях в Москве в конце 1990-х: вскоре Лебл покончил самоубийством. На фото: чехово-чешский Иванов 1998 года (актер Богумил Лепл). |
Входящий в моду 45-летний московский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сделал запоминающийся жест: дописал чеховскую «Чайку». Дописал в детективном жанре, вместив в классическую пьесу горький опыт ХХ века. Что случилось с реальностью и с человеком, а точнее - с человеком искусства, за столетие?
У Чехова Треплев застрелился. По Акунину, это самоубийство - мнимое: на самом-то деле Треплева убили. Кто и за что? Акунин выстраивает восемь равнозначных дублей-эпизодов, в каждом из которых кто-то из героев разоблачается как убийца. Как водится в детективах, подозреваются все, и эти подозрения сбываются стопроцентно.
Для тех,
кто не читает журналы
Чтобы не посылать читателей в библиотеку и не быть голословным, я сделал дайджест из 24 страниц акунинского текста. Вот он (в квадратных скобках - пропуск текста и мои пояснения).
ЧАЙКА
Комедия в двух действиях
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Т р е п л е в (пробегает глазами рукопись). «Афиша на заборе гласила... Бледное лицо, обрамленное темными волосами...» Гласила, обрамленное... Это бездарно (зачеркивает). Начну с того, как героя разбудил шум дождя, а остальное всё вон. Описание темного лунного вечера длинно и изысканно. (С раздражением.) Тригорин выработал себе приемы, ему легко! (Хватает револьвер, целится в невидимого врага.) У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса - вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе... Это мучительно. (Громко стукает револьвером о стол.) [Акунин полностью цитирует текст финала чеховской «Чайки», добавляя в некоторых местах собственные ремарки.]
Н и н а. [...] Я - чайка. Нет, не то... Помните, вы подстрелили чайку? (Показывает на чучело.) Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа. [...] Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства - чувства, похожие на нежные, изящные цветы... Помните?.. (Монотонно читает, словно убаюкивая.) «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, - словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах...» [...]
Д о р н. [...] Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился... [Дальше идет чисто акунинский текст.]
Т р и г о р и н (истошным голосом). А-а-а-а!!! Нет! Не-е-е-ет! [...]
Д о р н. Константин Гаврилович мертв. Только он не застрелился. Его убили. [...] Константина Гавриловича мог убить любой из нас. [...] Давайте разбираться.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Дубль 1
[...] Н и н а. [...] Я готова была на то, чтобы... Чтобы (едва слышно) отдаться Косте... Лишь бы отвлечь его от мысли об убийстве, лишь бы спасти Бориса [Тригорина]... Мы стояли у стеклянной двери. Он взял меня за плечи, стал целовать в шею, и вдруг я почувствовала, что не вынесу, что это выше моих сил... Вижу - на секретере револьвер. [...] Я прошептала: «Погасите лампу!» А когда он отвернулся, схватила револьвер, взвела курок... Я умею стрелять. Меня офицеры научили - в прошлом году, когда я гастролировала в Пятигорске... [...]
А р к а д и н а. [...] Жалеть ее нечего. [...] Такую рекламу себе сделает на этой истории! Позавидовать можно. И ангажемент хороший получит. Публика будет на спектакли валом валить.
Дубль 2
[...] М е д в е д е н к о. [...] Этот барчук, этот бездельник (тычет пальцем в правую дверь) растоптал мне жизнь! Казалось бы, стал модным писателем, деньги тебе из журналов шлют, так уезжай в столицы, блистай. Нет, сидит как ворон над добычей. Губит, топчет, сводит с ума. А Машенька и сошла с ума. Смотреть на это сил нет! И пьет, много пьет. Ребеночка забросила. Я ведь не убивать хотел, хотел попросить только по-человечески - чтоб уехал, пожалел нас. Для того и пришел - наедине поговорить. А он на меня как на грязь какую посмотрел, пробормотал что-то по-французски, зная, что я не пойму, и отвернулся. Тут на меня будто затмение нашло. Схватил со шкафчика револьвер... Как дым рассеялся, думаю: нельзя мне на каторгу. [...]
Дубль 3
[...] М а ш а. [...] Это не Заречная - чайка, это я - чайка. Константин Гаврилович подстрелил меня просто так, ни для чего, чтоб не летала над ним глупая черноголовая птица! [...] Я думала, рано или поздно он будет мой. Но тут появилась она и снова вскружила ему голову. [...] Я стояла за окном и думала: довольно, довольно. Даже чайка, если ее долго истязать, наверное, ударит клювом. Вот я и клюну его в темя, или в высокий, чистый лоб, или в висок, на котором подрагивает голубая жилка. Я готова была смотреть на эту жилку часами... Освобожусь, думала я. Избавлюсь от наваждения. И тогда можно будет уехать. Уехать... Уехать... [...]
Дубль 4
[...] Ш а м р а е в. [...] Заглядываю в окно (показывает на окно) и вижу: Константин Гаврилович с госпожой Заречной. [...] Заречная вдруг спрашивает: «А как та девушка в черном, кажется, Марья Ильинична?» [...] Он презрительно так засмеялся и говорит: «Пошлая девчонка до смерти надоела мне своей постылой любовью». Да-да, Машенька, именно так он сказал! Представьте себе, господа, муку отца, услышавшего такое! Всё во мне заклокотало. Решил: уничтожу оскорбителя собственной рукой, а после хоть на каторгу. Пусть только Заречная уйдет - она ни при чем. Так и сделал, рука старого солдата не дрогнула. А когда дым от выстрела рассеялся, вдруг затрепетал. [...]
П о л и н а А н д р е е в н а. [...] Это я застрелила Константина Гавриловича! Илья на себя наговаривает, чтобы от меня подозрение отвести! Илюшенька, ты и в самом деле был глух и слеп, ты ничего не знаешь! Ведь было у Машеньки с Костей, было! И ребеночек от него! [...] Я всё думала, голову ломала, как бы сделать так, чтобы Константин Гаврилович навсегда исчез из нашей жизни. Мечтала: уехал бы он в Америку или пошел на озеро купаться и утонул. [...]
Дубль 5
[...] С о р и н. [...] Костя в последнее время сделался просто невменяем - он помешался на убийстве. Всё время ходил или с ружьем, или с револьвером. Стрелял всё, что попадется: птиц, зверьков, недавно в деревне застрелил свинью. [...] Прислуга его стала бояться. [...] Вот я и старался не отходить от Кости ни на шаг, даже спал с ним в той же комнате. Ведь неизвестно, что ему взбредет в голову. А в четверг Костя застрелил Догоняя - просто так, ни за что. Добрый старый пес, полуоглохший, доживал на покое. Тогда я и изобразил припадок. Думал, Ирочкин приезд на Костю подействует. Не помогло, только хуже стало.
Д о р н. Надо было мне рассказать. Я бы его в лечебницу отвез.
С о р и н. Я хотел было. Но нельзя: свяжут руки, будут лить на темя холодную воду, как Поприщину. А Костя не вынесет, он гордый и независимый.
Д о р н (тихо). И поэтому вы решили, что так будет для него лучше?
Дубль 6
[...] А р к а д и н а. [...] Что вы все так на меня смотрите? Уж не думаете ли вы... что я убила собственного сына? Чего ради? Зачем?
Т р и г о р и н (отшатывается от нее, истерически кричит). Зачем? Зачем?! Я знаю зачем! Самка! Мессалина! О, мне следовало сразу догадаться! Ну конечно! Ты всегда, всегда мешала мне жить, всегда стояла на пути моего счастья! Ты погубила меня, высосала по капле всю кровь! Паучиха! [...] Он был похож на афинского эфеба, пронзающего стрелой орла. Зачем, зачем ты увезла меня два года назад? Ты разбила мне сердце! Ты подсунула мне ту глупую, восторженную дурочку. Вместо алмаза подсунула стекляшку! Ревнивая, алчная, безжалостная! Ты знала, что ради него я пойду на всё! [...] Но здесь, на берегу этого колдовского озера, осталось мое сердце! Твой сын подстрелил его, как белую птицу. Я - чайка! [...]
Дубль 7
[...] Т р и г о р и н. [...] Теперь могу признаться, что я очень завидовал его дару. Как красиво, мощно звучала его фраза. Там было и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе. Так и видишь летнюю ночь, вдыхаешь ее аромат, ощущаешь прохладу. А я напишу про какое-нибудь пошлое бутылочное горлышко, блестящее под луной, - и всё, воображение иссякает. [...]
Д о р н. Вы давеча сказали, что у вас с криминальной повестью «никак не выходило» [...] А теперь что же - выходит?
Тригорин вздрагивает, ничего не говорит.
[...] Стало быть, психология убийцы для вас теперь загадкой не является? Что вы давеча такое пробормотали? Непременно описать ощущение нереальности происходящего? (Делает шаг к Тригорину. Тот отступает.)
Дубль 8
[...] Д о р н. [...] Этот ваш Треплев был настоящий преступник, почище Джека Потрошителя. Тот хоть похоть тешил, а этот негодяй убивал от скуки. Он ненавидел жизнь и всё живое. Ему нужно было, чтоб на Земле не осталось ни львов, ни орлов, ни куропаток, ни рогатых оленей, ни пауков, ни молчаливых рыб - одна только «общая мировая душа». Чтобы природа сделалась похожа на его безжизненную, удушающую прозу! Я должен был положить конец этой кровавой вакханалии. Невинные жертвы требовали возмездия. (Показывает на чучела.) А начиналось всё вот с этой птицы - она пала первой. (Простирает руку к чайке.) Я отомстил за тебя, бедная чайка!
Сюжет для большого анекдота
За сто лет Треплев изменился весьма: стал раздражительнее, агрессивнее, чуть что - хватается за револьвер или ружье, стреляет всякую живность, соблазняет не только Нину, но и Машу, и Тригорина. Короче, реальный убийца, мужчина на грани нервного срыва, кандидат в дурдом или тюрьму. Так и нарывается, вызывая у всех одно чувство: «Раздавить гадину!»
За тот же период Нина Заречная приобрела «опыт», расчёт и сильно измельчала. Тригорин неожиданно «поголубел». Аркадина стала еще стервознее. Словом, люди искусства деградировали изрядно - вплоть до душегубства. Как говаривал муж Пахмутовой: «Ничто на Земле не проходит бесследно...»
Утверждение Бердяева, что культура - кладбищенский цветок, Акунин обогащает постулатом, что человек искусства - преступник хуже Джека Потрошителя. Треплев уничтожает жизнь хотя бы уж тем, что в жанре фэнтези пишет о будущем, когда не будет ни людей, ни львов, ни орлов и куропаток, ни рогатых оленей и пр.
Для деконструкции чеховской «Чайки» и конструирования собственной «матрёшки» Акунин использует затрепанные идеи постмодернизма: конец Автора, конец Героя, конец Искусства, конец Истории, конец Реальности и еще бог знает чего. Персонажи и мотивировки убийств примитивизируются до уровня анекдота и мультфильма. Это смешно.
По Акунину, реальность распалась на параллельные варианты: можно так, а можно этак. Все оценки произведений искусства равнозначны. Треплев уверен, что тригоринское «бутылочное горлышко, блестящее под луной» - это пример качественного минималистского образа, а Тригорин уверен, что это, наоборот, пример скудости писательской фантазии.
В итоге нельзя быть уверенным ни в чем: ни в искусстве, ни в искусствоведении, ни в том, кто кого убил. Возможно, каждый просто наговаривает на себя - по законам шоу-бизнеса, ради саморекламы. Неслучайно Тригорина посещает, по его словам, «мысль о нереальности происходящего».
В 1922 году Акутагава написал новеллу «В чаще», где три персонажа рассказывают разные версии одного убийства, и в каждой - убийцей называет себя сам рассказчик (по этой новелле Куросава снял фильм «Расёмон»). У Акутагавы проблематика многовариантной реальности и личности была поставлена на полном серьёзе, а Акунин использует ее как элемент игры, моды, развлекаловки, черного юмора. Акутагава в 1927-м выпил смертельную дозу веронала, а Акунин не сделает ничего подобного никогда.
По чеховскому Треплеву, «общая мировая душа» сольется из миллионов жизней людей и животных. Акунин застал процесс слияния масс в одно целое примерно на середине: зверей и птиц всё меньше, личности исчезают, чучел всё больше. Смех смехом, но если так пойдет и дальше, то в конце концов действительно наступит описанный Чеховым жуткий момент: «на фоне озера показываются две красных точки» (глаза дьявола) и «серой пахнет».
Дилогия на Спасской?
В Театре на Спасской благоразумно похоронили шедший несколько лет спектакль «Чайка» по Чехову в постановке Клокова (1991-2000). Хватит интерпретаций классики! Сколько можно! Но вот появилась современная пьеса, на тот же сюжет, «идейная», детективная, смешная. Эх, как бы можно было ее поставить на Спасской в тех же декорациях Шаронова, с Карпичевой-Аркадиной, Грибановым-Тригориным, Королевским-Треплевым, Васильевой-Заречной, Свинцовым-Сориным, Ишиным-Шамраевым! И если уж не успех, то - как минимум - интерес зрителей был бы гарантирован.
 |
Как ни крути, «Чайка» - это уже дилогия. В одном из московских театров ее играют в два вечера: в первый вечер - «Чайку» Чехова, во второй - «Чайку» Акунина, с теми же актерами. Сегодня Лев Дуров в роли Дорна говорит: «Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился», - назавтра тот же Дуров-Дорн поправляет: «Константина Гавриловича мог убить любой из нас», - а послезавтра выходят рецензии с заголовками типа «Чехов опять пошел на мокрое дело».
Видимо, затертые до дыр шедевры литературы и театра, чтобы дойти до зрителя нового века, обязаны менять кожу, возрождаться в виде жанрово-перекодированных переделок. «Евангелие» смотрибельно лишь в виде рок-оперы Уэббера «Иисус Христос Суперстар», «Гамлет» удобоварим лишь в упаковке пьесы Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», а «Анна Каренина» - как комикс Метелицы. Общая установка - на упрощение, снижение, пародийность.
На серьёз классики компьютерное поколение реагирует компьютерной лексикой: «Не грузите меня!» - и заинтересованно откликается лишь на то, что «прикольно». Чехова, избыточно мегабайтового, сознание не вмещает. А вот Акунин с его парой-тройкой заёмных идей - для интеллектуальной игры в самый раз.
Михаил КОКОВИХИН
| Следующая статья: Михаил НЕНАШЕВ. О Мерабе Мамардашвили (памяти известного философа) |

