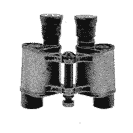 |
| Рубрики |
| Авторы |
| Персоналии |
| Оглавления |
| Авангард |
| М-студия |
| Архив |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
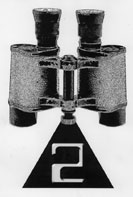 |
 |
 |
| Главная | О журнале | Оглавление | Отзывы |
Жизнь человеческого духа в минуту молчания
Психологический театр в исполнении АЛЕКСАНДРА КЛОКОВА
 |
| "Снегурочка" |
 |
| "Эквус" |
 |
| "Эквус" |
 |
| "Женитьба" |
 |
| "Маленькие трагедии". Сальери - Г.Иванов. Моцарт - М.Андрианов |
А был ли мальчик?
В последнее время меня все чаще посещает крамольная мысль: а таким ли уж неоспоримым достижением эпохи режиссуры было изображение на сцене всяких эфемерностей вроде жизни человеческого духа? Ведь до Константина Сергеевича актеры тоже как-то передавали правду сценических характеров. И народу нравилось. Может, сегодня, за невостребованностью зрителем, всякую психологию на театре взять - и отменить? Во всяком случае, тот ее сиротливый вариант, что упорно цепляется за жизнь на провинциальной сцене? Путь от метафизики духа обратно к элементарному правдоподобию характера персонажей оказался под силу многим российским театрам - что называется, вернулись в дорежиссерскую эпоху, не оглядываясь.
Например, большинство вятских зрителей никакой потери на этом пути вообще не заметило. На сцене Кировского драмтеатра давно обходятся без психологических тонкостей. И, правда, чего публику зря томить психоложеством, если налицо кризис авторского жанра? Главреж Евгений Степанцев, не претендуя ни на какое отражение духа, успешно работает с комедийными масками (в лучшем случае) или просто использует кичевые клише. Принципиально далек от психологического театра и Юрий Ардашев, более известный как режиссер ТВ. В спектакле "Три сестры" он использовал прием постмодернистского коллажа. Контраст между подражанием мейерхольдовской биомеханике одних исполнителей и самодеятельной фальшью других был заложен в структуру спектакля. Эта претензия на новацию смотрелась на вятской сцене достаточно свежо, но отклика широких масс не снискала.
О пользе стихий
В силу психологического театра продолжает верить главреж театра на Спасской Александр Клоков. На излете сезона он выпустил римейк "ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ" - собственного спектакля 17-летней давности. Желая быть услышанным самыми разными зрителями, он активно использовал на театральной сцене элементы эстрады: актеры бойко запели через микрофон. При этом постановщик не пожелал отказаться от милых его сердцу прочувствованно исполненных диалогов. Спектакль получился эклектичным. Психологические сцены, буквально заглушаемые эстрадными ритмами, трудно монтируются с вокально-танцевальными номерами и кажутся ритмическими провалами. Словом, воспринимаются зрителем как полный архаизм.
Возврат Клокова к эстетике 80-х симптоматичен. Известность в театральном мире ему принесла постановка "СНЕГУРОЧКИ" (1983) - удачная попытка оживить плоть спектакля средствами народного площадного театра, полного витальной силы. Романтическая драма Островского о любви, красоте и смерти раскрывалась режиссером через столкновение психологического театра с экстатическим обрядовым ритмом. Разбуженная стихия народного праздника то поглощала персонажи, делала их неразличимыми в круговороте пляски, то выталкивала на авансцену, где под масками вдруг обнаруживались живые лица, рождались искренние открытые эмоции. От актеров требовался особый способ существования, когда не провести черту между исполнителем и персонажем. Драматическое целое возникало благодаря монтажной сборке и сложному ритмическому рисунку. Так рождался авторский стиль. Подобная модель спектакля была удачно опробована Клоковым на разном материале: один за другим появились "Мамаша Кураж" Брехта (1986), "Разбойники" Шиллера (с участием местной рок-группы "ЧП", 1987).
"ЭКВУС" по пьесе Шеффера (1988) стал заметным событием не только в Вятке. Главный герой - подросток Алан (Александр Королевский) на глазах у зрителя безоглядно погружался в придуманный им миф, отдаваясь экстатическому ритму варварской стихии. Через "коллективное бессознательное" Алана в спектакле совершался рывок из повседневности в пра-мир, где ветер в поле, конь и человек пребывали в живом единстве. Пациенту Алану противостоял психоаналитик Мартин (Владимир Грибанов) - с неоварварством сталкивалась культура, понимаемая здесь как система ограничений. Но все логические построения доктора были мертвы без непосредственной веры пациента, а порывы стихии, лишенные разумного контроля, несли разрушение.
Главная тема спектакля - тоска по целостности человека - раскрывалась через сопоставление двух разных способов актерского существования. Герой Грибанова внешне был предельно статичен, сдерживал свои интонации, воздействовал на публику преимущественно логикой суждений. А экспрессивная пантомима и ритмичное "мычание" Алана-Королевского безотказно работали на подсознание зрителя, вызывая живой эмоциональный отклик. И в целом этому многослойному спектаклю каким-то чудом удавалось избежать эклектики. Авторский стиль Александра Клокова получил здесь свое предельное выражение.
Пустыня после бури
На рубеже 80-90-х театр на Спасской больше не будил стихию, он замкнулся в кругу саморефлексии - Клоков выпустил два спектакля о театре и об интеллигенции. В "МОЛЬЕРЕ" Булгакова (1989) постановщик еще размышлял на актульную для советского искусства тему "художник и власть". А в начале 90-х в театре уже вызревала проблема взаимоотношений художника и публики. В "ЧАЙКЕ" (1991) спор между Треплевым и Тригориным - новаторами и ретроградами - не принципиален, зато пронзительно звучала тема хрупкости искусства и жизни вообще перед надвигающейся пустотой. Казалось, интеллигенция цеплялась за искусство как за последнее прибежище. Актеры сочувствовали героям, вплоть до отождествления себя с ними, трогательно сохраняющими стойкость духа. Этот внешне скромный, традиционно психологический и очень искренний по интонации спектакль до сих пор радует зрителя отсутствием театральной фальши.
Репетируя "БЕСОВ" (1992, по пьесе Камю), Клоков в газетном интервью говорил: "Мы стараемся сами понять, что двигало людьми во имя сохранения себя. Это христианские традиции, вера, утраченная ныне, 'коллективная мораль' - то, что объединяло людей, удерживало их от дурного, создавало некую духовную общность". В "Бесах" Клокова стихия своеволия означала смерть. И когда в середине 90-х режиссер вновь огляделся, то увидел вокруг одну безжизненную пустыню.
В "ГАМЛЕТЕ" (1994) великолепные пепельные декорации Кирилла Данилова воссоздают картину полного краха: кажется, в спектакле распадается само вещество жизни. Постперестроечный вятский Гамлет (Александр Коровин) загнан в угол и поставлен на колени, а зритель, по воле постановщика, любуется мертвой Офелией. От затухающих к финалу спектакля ритмов рождается не мысль, но ощущение: здесь тщетно и смертельно опасно любое человеческое усилие. Впервые в театре Клокова так пугающе точно отразился наш опустошенный мир, и зрители, зараженные его энтропией, не в состоянии осознать смерть как трагедию.
Но вместо гармонии, безвозвратно утраченной на Земле и на сцене, в отдельных эпизодах спектакля режиссер заставляет публику пережить особое состояние тишины - тишины покоя. Этот новый в театре на Спасской и, по сути, почти кинематографический эффект достигается режиссером и художником без участия актеров. На безлюдной сцене лишь с помощью какого-то особого, неровного и неживого света создается некая эфемерность, "зримая метафизика", луч потустороннего света. Похоже, что Клоков, познав бесплодность земного жизненного процесса, замахнулся на вневременное.
Но если еще недавно классическое выражение "театр - это храм искусства" ни у кого не вызывало сомнений, то с середины 90-х народ четко разделил: храм как церковь с ее душеспасительной функцией - отдельно, и театр - тоже отдельно. Постперестроечный театр в основном-то и был востребован как зрелище, отвлекающее от всяких суровых размышлений о грехе, искуплении, жизни и смерти. Но театр на Спасской настойчиво продолжал свой миссионерский путь.
В ритме дьявольского марша
В "ЖЕНИТЬБЕ" (1995) - более демократичном, по замыслу Клокова, спектакле - речь шла о невозможности счастья в этом дьявольском мире, о ропоте души в поисках вечного. Появились откровенно сентиментальные интонации сочувствия всем, не обретшим в жизни счастья. В сценографии Данилова использован прием "камеры-обскуры": уменьшенный масштаб декораций давал как бы "крупные планы" героев. Но флюиды, источаемые актерами в лирических сценах, бесследно испарялись в третьем ряду партера. Школьнику комедийный Гоголь с его дьявольским смехом оказался ближе. Правда, посмеяться вволю Клоков зрителю все же не позволил. Смех в спектакле как бы перерождается: сначала забавно и весело, потом вдруг веет холодом бездны и публику постарше осеняет, что хохоток-то в зале - глумливый.
Театр Клокова остается очень серьезным и в своем христианском отношении к смеху, и в утверждении вечных ценностей, пытаясь в в спектаклях, как на уроках, дать юношеству верные ориентиры. В эстетике Клокова нет места ни иронии, ни самоиронии. Но юноши, склонные нынче к приколам и розыгрышам, воспринимают эти "прописные истины" с некоторым сомнением. Правда, и ложного пафоса театр на Спасской, как может, пытается избежать. Иногда это удается.
Жанр "ВЕЧНО ЖИВЫХ" (1995), поставленных к 50-летию Победы, можно без шуток назвать "минутой молчания". Мелодрама Розова, выведенная Клоковым из контекста реального и исторического времени на вневременной уровень, прочитана как христианская притча. Зритель отчетливо слышит в безжизненной тишине улицы звук шагов уходящих на фронт солдат и понимает: это строй непришедших с той войны - строй мертвых. Актеры произносят реплики как бы не здесь и не сейчас, а в пустоту вечности. "Все как было, только странная воцарилась тишина..." - декламирует героиня, комментируя саму атмосферу спектакля. Но именно эта атмосфера и не устроила массового зрителя, роптавшего, что, мол, и Вероника (Марина Карпичева) здесь не та, не мелодраматическая...
Похоже, режиссера на данном этапе не очень волновала сложность характеров его героев. В разреженном пространстве сцены люди в клоковских спектаклях второй половины 90-х скользят, как тени, как отблески собственных судеб, как воспоминание о былых страстях, как знаки. Самая проникновенная сцена "МАЛЕНЬКИХ ТРАГЕДИЙ" (1996) - тихий свет, кладбищенский покой на пустой после апокалипсиса Земле. Но декорации Данилова в этом спектакле выглядят слишком красивыми, кичливыми, как чересчур нарядный венок вокруг бледного лица усопшего. И зритель невольно ждет подвоха: то ли покойник грубо пошутил, то ли это ирония живых?
В своих последних работах Клоков последовательно стремится к тому, чего нам сегодня особо недостает, - к гармонии и покою. А публика все активнее требует от театра знакомой жизненной стихии. Иногда случаются приятные совпадения авторских интересов со зрительскими. Например, в "Пире во время чумы" (последней части "Маленьких трагедий") вакхический ритм песни Вальсингама (Андрей Матюшин) противостоит ритму зловещих танцев мефистофелевых марионеток. В пульсирующем свете раскачивающихся люстр пир напоминает дискотечный разгул. В спектакле сталкиваются две стихии - живая, человеческая, и дьявольская стихия смерти. И председатель Матюшина со всей страстью доказывает нам: перед разверзшейся пропастью небытия жить все-таки стоит, хотя бы вот один такой наполненный миг.
Не улетай, душа
В клоковской "Снегурочке" 80-х жесткий обрядовый ритм был губителен для утонченной холодной красоты, но - в целом - в этом ритме народного праздника отражалась стихия жизни, с ее страстями и бурями. Теперь, когда жизнь вокруг нас истончилась до небытия, в театре на Спасской зрителя завораживают другие ритмы: будь то механический рок люстры-маятника в "Маленьких трагедиях", марш мертвых в "Вечно живых" или дьявольские балетные па Кочкарева в "Женитьбе". Теперь ритмы, задающие спектаклям движение, по сути, означают постоянное присутствие в окружающем нас мире сил смерти.
И на этом зловеще-безжизненном фоне авторское режиссерское "я" обретает себя лишь в минуту тишины, в момент паузы, когда в воздухе спектакля вдруг появляется нечто эфемерное, трепетное - тихий ровный свет души на мертвой земле. Жаль, что этих тонких материй Клокову как правило не хватает на весь спектакль. "Картины" жизни человеческого духа создаются режиссером вне возможностей психологического театра, и "моменты просветления" наступают на сцене чаще всего без участия актеров. И все же это самые замечательные моменты спектаклей, если только зритель позволяет им состояться. Сегодня публика не спешит прислушаться к тишине спектакля из одного лишь уважения к труду и мнению автора.
Время "негромкой лирики" прошло, и стиль в демократическом искусстве театра определяет большинство. "ДОН КИХОТ" (1997) поведал о драме художника, не принятого большинством и потрясенного гибелью любимой идеи. В спектакле Клокова весь мир лицедействует, но Дон Кихот (Анатолий Свинцов) воспринимает его всерьез, и, когда лишается своей веры, он умирает. На языке театра это означает, что сейчас, увы, не время для театра переживания, в котором актер верит в вымысел. Что, по сути, и доказывают спектакли театра на Спасской, но с чем режиссеру невероятно больно и трудно согласиться. Вместе с тем финальная картина "Дон Кихота" дает концентрированный образ последних клоковских спектаклей, где душа - отдельно, и актер на сцене - отдельно. Когда над распростертым телом рыцаря поднимается квадратная рама с доспехами - кажется, отлетает его душа, и остается лишь оболочка тела.
Постановка пьесы Михаила Угарова "ГАЗЕТА 'РУССКИЙ ИНВАЛИД' ЗА 18 ИЮЛЯ" (1998) - о писателе, забившемся в кокон своего внутреннего мира, - связана с желанием режиссера Клокова вернуться к целостности психологического спектакля. И сохранить при этом паузы, в которых и проявляется подлинная жизнь души: когда на сцене как бы ничего не происходит, а на самом деле происходит самое важное. Клоков попытался добиться органичного соединения моментов актерского проживания роли с режиссерскими приемами, выводящими действие на вневременной уровень. Спектакль сделан без жесткого сквозного ритма, исключительно на душевных импульсах актеров. Так было в клоковской "Чайке" 91-го, когда казалось ощутимым само движение времени: уходила жизнь, но за ней открывалась гибельная бездна - пустота, ничто, "черная дыра".
В конце 90-х в "Русском инвалиде" Клоков ищет способ показать жизнь и смерть в моменты их одновременного присутствия на сцене. Художник Степан Зограбян ставит лодку на вечный прикол и создает домашний уют под стеклянным колпаком. Когда колпак поднимается, образуется единое пространство жизни-смерти - и этот прием работает как знак. Сложнее с актерами. Показать слабые всплески живой души на мертвом фоне Клокову замечательно удалось еще в "Гамлете". Но намного труднее было наполнить в "Русском инвалиде" пространство "вечности" просто "живой жизнью" - заразить зрителя эмоциями персонажей, заставить его, не отвлекаясь, проследить все психологические перипетии и пережить вместе с героями потрясение смертью как бессмертья, может быть, залог.
Театр - искусство реалистическое и телесное. Показать человека, живущего на сцене по законам психологии, и сделать зримым движение его бессмертного духа - самое недостижимое и заманчивое в театральном искусстве. Клоков пытается вернуться к самому главному. За попытку - спасибо.
Елена БЕЛЯЕВА, искусствовед

