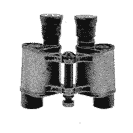 |
| Рубрики |
| Авторы |
| Персоналии |
| Оглавления |
| Авангард |
| М-студия |
| Архив |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
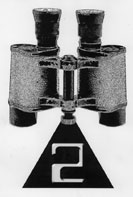 |
 |
 |
| Главная | О журнале | Оглавление | Отзывы |
| Блеск и нищета советской историографии |
| Размышления историка |
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
(Иосиф Бродский. «Письма римскому другу»)
 |
 |
Конец XVIII - XIX век в России не могут нас не изумлять. Расцвет и вспышка ярких талантов в русской литературе, исторической науке... Время спрессовалось, и мы быстрым шагом прошли тот путь спокойного развития литературы и науки, что иные европейские страны одолели лет за 300. В ХХ веке с яркими талантами стало явно хуже. Поскольку тема очерка - развитие исторической науки, или попросту историографии, в России ХХ века, то и обратимся к истории и историкам.
Кого же из советских историков ХХ века мы можем считать равновеликими пусть даже деятелям не первой (Н.Карамзин, С.Соловьев, В.Ключевский), а второй шеренги исторической науки России XIX века (Н.Костомаров, И.Забелин, А.Щапов...)? Может быть, М.Покровского, Б.Грекова, Б.Рыбакова? Нет, это слишком официозная череда. Тогда А.Зимина, М.Гефтера, Л.Гумилева? Тоже несовпадение параметров. Может быть, последним (и многим другим) просто не дали развернуться в условиях сверхмощного идеологического пресса и принудительного коллективизма? Может быть... Но дело не только в этом. Советская эпоха массово создала трудолюбивого и анонимного исследователя, начисто лишенного честолюбия, личных амбиций и индивидуальности. Я имею в виду только историков, занимавшихся историей России, - специалисты по зарубежной истории обладали целым рядом льгот и отличий.
В условиях Советской России совершенно по-иному функционировал механизм исторической науки. Если дореволюционная наука была в значительной мере наукой университетской, базировавшейся на основе немногочисленных, но высококачественных российских университетов и очень ярких и мощных научных обществ, то советская наука сразу строилась из разрушенного Советской властью прежнего механизма как наука академическая, при этом университеты и вузы изначально обречены были на роль второстепенную и арьергардную.
Принципы жёсткого идейного диктата избранных властью в вожди науки нескольких академических институтов и пары университетов претворялись в жизнь с помощью сверхмощного аппарата власти, тотальной цензуры, системы идеологического контроля и всеобщего промывания мозгов. Наука в России стала государственной целиком и полностью.
Идеи государственной школы русской историографии XIX века неожиданно восторжествовали над всем, в том числе и над здравым смыслом. Марксистская социально-экономическая тематика в конце извилистого и тернистого пути нашей науки 1920-30-х годов, освещенного заревом массовых проработок и организационных перестроек, политических кампаний и судебных процессов, стала безраздельно господствовать в исторической науке. Достойной изучения признаётся лишь история государства и его структур, а также (если речь идет о дореволюционном периоде) история борьбы трудящихся масс (именно масс, а не одного человека) с эксплуататорским государством.
Из исторических исследований в России полностью выпал живой человек прошлого с грузом привычек, взглядов, румянцем и кошельком на поясе. Историческая наука обесчеловечилась. Любопытно, что при этом в духе времени обесцвечивались и личности, индивидуальности авторов-историков, иногда насильственно подгоняемые под одну линейку. В июле 1951 года, отвергая идею биографической статьи о себе в связи с юбилеем, великий русский этнограф Д.Зеленин с горечью писал в частном письме: «...в журнале можно печатать лишь статьи о многих, так чтобы отдельные личности потонули в коллективе, в массе. [...] У меня больше врагов, чем у Десницкого [также профессор в Ленинграде, близкий знакомый Зеленина. - В.Б.], почему нужно быть осторожным» (Бердинских В. Занимательное краеведение: Вятский сундук. Киров, 1996. - С.150).
Но такого рода оригинальные старцы (с дореволюционным образованием и широкой гуманитарной культурой) - чудаки и обломы, не уехавшие из России и не сгинувшие в лагерях и ссылках, уже в 1950-е благополучно вымерли. Масса, пришедшая им на смену, вполне устраивала власти. Коллективные научные труды, как обезжиренные диетические продукты, стали лишены вкуса, цвета, запаха. Исследования стали принимать во многом вид абстрактных социологических схем. Благодаря марксизму-ленинизму-сталинизму неясности и проблемы в историческом процессе исчезли. Используемые авторами источники должны были лишь подтвердить имеющийся каркас из аксиом, припудрить его архивной пылью и придать ему вид доказательный и убедительный.
Впрочем, часть историков предприняла обманный маневр - бунт на коленях, который особенно хорошо удавался, если речь шла о давно прошедшем времени, например, XII-XVII веках, - она с головой ушла в фактологию. Выдав в начале работы необходимое количество ритуальных цитат из классиков марксизма-ленинизма и поклонов действующей на сегодня власти, затем выдавали на-гора накопленный фактический материал в некоторой системе, но совершенно без выводов или комментариев.
Благодаря целенаправленной и жёсткой политике властей (принцип личной преданности строю стал главным при отборе кандидатов в историки-исследователи) произошло серьезное понижение интеллектуальной культуры ученых: кто эмигрировал, кто арестован, кого выгнали с волчьим билетом, а оригинально мыслящую молодежь просто не брали. Появились новые традиции советской историографии: коллективизм как ключ к успеху в любой области, осторожность, а затем и просто леность мысли, дух культа фактов, рептильность относительно действующих (на любом уровне) властей и апологетика властных структур Советской России.
Реальной точкой отсчета для историков признавался только октябрь 1917 года. Вся история дореволюционной Руси (начиная с восстания Савмака), когда рабы, холопы, крестьяне, рабочие, разночинцы жили с каждым веком всё хуже и хуже, а восставали всё сильнее и сильнее, - логически вела к завершению пирамиды, вершине счастья всего трудящегося люда Земли - Великой Октябрьской социалистической революции.
Этим заканчивалась предыстория как таковая. Новая эпоха, настоящая наука, истинное государство, достойное самого тщательного изучения, - всё это возникло лишь в 1917 году. Отсюда официальное отношение к дореволюционной исторической науке как допотопной, не просто враждебной, но ненужной новому строю. Буржуазная, значит, ненаучная...
Конечно, мыслящие исследователи знали цену этой идеологической трескотне и дома на кухне (когда стало можно с конца 1950-х) издевались над таким тупоумием. Но реально в книгах, академических журналах, сборниках и статьях рамки дозволенного сомнения были очень узки.
Возвращаясь к победившей в 1917 году тематике социально-экономической истории, обратим внимание, что в 1920-50-е годы реальные и качественные работы в этой школе осуществляли люди, получившие добротную профессиональную подготовку еще до революции. Господство школы Б.Грекова, руководствовавшейся во многих своих работах здравым смыслом, завершилось в 1950-е.
Советская империя была своеобразным королевством кривых зеркал, где в умах людей (в том числе и новых поколений историков) были созданы самые невероятные и дикие конструкции. Но присутствие непосаженных остатков русской интеллигенции, пусть и «проваренных в чистках, как соль», имело благодетельное значение для науки. Они, по крайней мере для себя, твердо знали, что черное, а что белое в пестрой картине мира. Имена Л.Черепнина, М.Тихомирова, Н.Дружинина... для нас поэтому близки и авторитетны.
Совсем иное (смешанное) чувство мы испытываем к работам так называемых «красных» академиков - М.Нечкиной, А.Панкратовой, И.Минца, исследовавших тематику, считавшуюся государственно и партийно значимой (история освободительного и рабочего движения, Октябрьской революции и т.п.). При всей их жёсткой идеологической предвзятости (писали, как надо) нельзя не отметить всё же определенной масштабности этих человеческих личностей, умело переживших очень крутые людоедские времена.
Хрущевская оттепель разрешила обращение к народнической и, в первую очередь, народовольческой тематике. Для многих историков нового поколения это была определенная фронда (всё же не история правящей партии, а ее предшественников-оппонентов), и сотни творчески мыслящих исследователей ринулись в эту закрытую прежде область. Появилось немало интересных работ, хотя искус народничеством был ложной приманкой, этаким отвлечением на время (два - два с половиной десятилетия) от более острых и болезненных проблем прошлого. Всё это не сняло кризиса в исторической науке России. Как метко заметил А.Гуревич, главной причиной нашего всё более усиливавшегося отставания от уровня мировой исторической науки была фанатическая приверженность одной-единственной теории общественного развития и отвержение с порога всех других возможных подходов (Гуревич А. Исторический синтез и школа «Анналов». М.: Индрик, 1993. - С.5).
Впрочем, значительной части наших историков (а это были преподаватели вузовского учебного курса «История КПСС») работать таким образом - в глухом углу темной комнаты при свете единственной свечи - было легко, просто и удобно. Чистая апологетика, утопание в мельчайших деталях какого-нибудь восстания или движения, безудержное восхваление личностей большевиков-лидеров (не попавших в 1920-30-е годы ни в какие оппозиции, уклоны и тюремные камеры), людей достаточно серых и неинтересных - всё это было посильно не очень образованной огромной массе провинциальных и столичных историков партии. Оригинальная, противоречащая канонам информация была устной и на бумаге не фиксировалась. А очень жаль! Мы бы сейчас с удовольствием прочли неканоническую историю ВКП(б)-КПСС, тем более что при прилизанности и фальсифицированности основной массы архивных источников по этой тематике - на их основе трудно написать что-либо оригинальное.
Во всех областях исторической науки уже с 1960-х годов давала себя знать исчерпанность традиционной тематики и проблематики научных исследований. Симптоматично, что единственный интересный общий курс русской историографии (Рубинштейн Н. Русская историография. М., 1941) был опубликован еще перед войной.
Античеловеческий подход к истории соответствовал античеловеческому подходу к историкам. Очень свежо и неожиданно звучат для нас давние слова Люсьена Февра: «История - это наука о Человеке, она, разумеется, использует факты, но это - факты человеческой жизни. [...] История, разумеется, использует тексты, но это - человеческие тексты. Сами слова, которые их составляют, насыщены человеческой сутью» (Февр Л. Бои за историю. М., 1991. - С.19). Сие шло вразрез официальным установкам. Бесконечное число книг и статей, где изучались «Отношения...», «Взгляды...», «Борьба...», «Актуальные проблемы...», «Усиление...» и «Претворение...», - неколебимо господствовали и все 1960-80-е годы. Любая попытка подкопа под основы жестоко и беспощадно подавлялась. Причем ревизиониста заставляли публично каяться в грехах, разоблачать других отщепенцев и фальсификаторов.
Даже у хороших ученых и настоящих исследователей (а таких во все времена при любой власти - от 5 до 15% в научных коллективах), продуктивно работавших пусть и в стол, как А.Зимин, вырабатывалась сверхосторожность, отсутствие смелости в выдвижении оригинальных идей и новых гипотез. До сих пор удручает совершенная философская беспомощность 90% наших историков (о какой философии истории здесь можно говорить!) и зависимость оставшихся 10% от устаревших и непригодных сегодня в условиях России концепций и философско-исторических установок зарубежной историографии.
Фактография стала в такой ситуации башней из слоновой кости всякого порядочного историка. Когда воздавая Богу (классикам марксизма-ленинизма) - Богово, а кесарю (очередному генсеку) - кесарево, припудрив свое вступление пригоршней засаленных от частого употребления ссылок на классиков и вождей, ритуально обругав буржуазных (ненаучных) историков - своих предшественников (которых исследователь хорошо знал), кинув несколько чеканных фраз по поводу ненавистных советскому народу западных фальсификаторов нашей истории (работы которых он в основном не читал), - человек давал добросовестно подобранную и тщательно выверенную сводку фактического материала по теме. На основе такого рода работ западные исследователи могли смело писать свои проблемно-исследовательские монографии. Фактаж-то очень достоверный! Отсутствие выводов и собственной концепции автора придавало такой работе вид опубликованного и хорошо обработанного источника.
Впрочем, такого рода леность мысли, философская зависимость от Запада - в России традиция гораздо более давняя. На редьке ананас не вырастет. Советская историография - плоть от плоти русской историографии XIX века. Разве богаты оригинальными мыслями и новыми гипотезами Н.Карамзин и С.Соловьев, Д.Иловайский и С.Платонов? Ведь и до революции, в XIX - начале ХХ века, да и позже, русскую историю писали поповичи - люди, вышедшие из среды духовенства со всеми присущими этому сословию особенностями поведения и типом мышления: осторожностью к властям, колоссальным трудолюбием, разночинским комплексом вины и долга перед народом, гуманитарной узостью, отсутствием широкого кругозора в культуре и т.д.
Еще одна существенная традиция советской исторической науки - автономность академической науки - в 1980-е годы начала уже восприниматься как анахронизм и самоедство. Унизительная второсортность университетской исторической науки по сравнению с академической (всегда на шаг позади и на голову ниже, вторичность в тематике и проблематике, отсутствие колумбова комплекса - стремления стряхнуть догмы) - перестала устраивать многих исследователей (впрочем, не занимавших ответственных постов), которые на свой страх и риск повели самостоятельные и принципиально новые исследования. Был некоторый всплеск с образованием в 1988 году Советской ассоциации молодых историков, где имелось немало свежих и интересных голов, но значительная часть из них затем ушла в политику.
Полное отсутствие аппетита к качественно новым и масштабным гипотезам в советской исторической науке - это, увы, аксиома. Отсюда - бесспорность и беспроблемность работ наших историков, их духовная оскопленность, аморфность и отсутствие личностного начала. Заметьте, всё это я говорю о научных исследованиях, а не о работах «попов марксистского прихода». Книги, статьи, сборники наших историков становились, по меткому выражению Люсьена Февра, «обожествлением настоящего при помощи прошлого». Реальная значимость их для продвижения вперед исторической науки России невелика.
А содержательно? Механическая, метафизическая история как череда предопределенных «законами общественного развития» сюжетов: восстаний, революций, кризисов, поражений и побед. Очень много мертвечины и надуманности, крохоборства и дилетантства. Нам сейчас отчетливо видно банкротство старых идей и методологий, сметенных бурным развитием российского общества. При этом сразу наступило всеобщее облегчение и господство здравого смысла. Вскоре обнаруживается, что и этого явно мало и перина эволюционизма, такая удобная и безопасная, годна лишь для вечного сна. «Куда ж нам плыть?» И вот первый резерв, какой бросается в глаза.
Историческая наука сильно обособилась от соседних дисциплин. Выталкивание за пределы официальной исторической науки совместных с литературоведением, этнографией, фольклористикой, топонимикой, социологией, психологией и т.п. сюжетов привело к тому, что эти сюжеты стали спекулятивно раскручивать лихие любители, превращая многие перспективные темы в фарс и объект для насмешек профессионалов. Восполняя читательский голод, писатели повели пиратские набеги на поля наших историков и внедрили в массовое сознание огромное количество мифов о прошлом.
В этом смысле феномен Льва Гумилева как профессионала и любителя одновременно - показателен. Специалисты ругают его как раз за то, за что взахлеб хвалит массовый читатель-интеллигент; а то, за что его может похвалить коллега-специалист, наш читатель просто пропускает - читать ему это неинтересно.
Перестройка второй половины 1980-х годов, перетряска в науке, развал Советской империи - всё это благотворно сказалось на количестве и качестве увидевших свет работ советских историков. Впрочем, иные авторы просто поменяли в своих работах плюсы на минусы, но толкуют о том же. Судьба самих же историков-профессионалов (особенно тех, кому за 50) далеко не столь благополучна. Разом потеряв стабильное положение в обществе, сбережения и уверенность в завтрашнем дне, многие чувствуют себя несладко. «Иногда просыпаюсь в холодном поту, представляю, что меня уволили из института на пенсию», - поделился со мной своей фобией 66-летний доктор исторических наук, член-корреспондент РАН.
Атмосфера всеобщей растерянности, нравственной вседозволенности 1990-93 годов, когда стало непонятно, что порядочно, а что безнравственно, ведь рухнули устои официальной советской морали в науке, - привела к бурному расцвету китча в книгах и статьях по злободневным, узловым проблемам русской истории. Заговоры и перевороты в Кремле, жёны, фаворитки и двойники вождей, императоров и министров - всё это всплыло на первые страницы газет и журналов, превратилось в широко читаемые книги и публичные дискуссии.
Открывшиеся архивы требовали длительного и спокойного труда, но на это не хватало ни сил, ни времени. «Прокукарекать, а там хоть не рассветай» - девиз исторических сенсаций той эпохи. Дух дешевой сенсационности определил характер целого ряда скороспелых работ того периода по проблемам методологии и философии русской истории, созданных в стиле русского винегрета.
Впрочем, академическая наука высокомерно отгородилась от ветра с улицы и этим спасла свое лицо. Научная молодежь же вначале шумно побежала из стен храмов науки и библиотек на заполненную галдящей толпой улицу (к живой жизни, так сказать), но затем частично вернулась в эти храмы, обратив особое внимание на всевозможные гранты и научные стипендии.
У многих представителей среднего поколения в науке (от 30 до 45 лет) начала возрождаться начисто вытравленная прежде инициатива и предприимчивость. И, как бамбук ломает асфальт, отдельные личности смогли резко ускорить свой путь по научной или политической карьере. Ошеломительный взлет и резкое падение таких рядовых кандидатов исторических наук, как Сергей Станкевич и Федор Шелов-Коведяев, очень показательны.
В этой бурной, динамичной жизни мы впервые четко уяснили достоинства апатичной и малоподвижной (в смысле социальных перемен) эпохи 1960-80-х годов. Именно тогда, пожалуй, шло спокойное и уверенное наращивание «мышечной массы» нашей исторической науки. Накоплена была очень внушительная сила покоя, которая в значительной мере начнет работать только завтра.
В XXI веке российская историческая наука имеет шансы испытать настоящий бум и даже, возможно, сменив французов, стать на какое-то время лидером мировой исторической науки. Для этого у нас есть всё: колоссальные массивы архивных и опубликованных источников, невероятный исторический опыт России, весьма однобоко нами исследуемый, хорошо подготовленные кадры историков-профессионалов, обсасывающие нередко проблему выеденного яйца, золотой запас академической науки и гибкая структура университетской.
Но прежде всего должна пройти серьезная революция в умах нового поколения российских историков. Пока же мы наблюдаем лишь разрозненные и вялые попытки подходов к новым методикам. Но, как уже не раз бывало в России, роды могут и не состояться вообще. Предвозрождение, так сказать, было, а Возрождение отсутствует. Впрочем, будем надеяться на лучшее. Как говорили древние римляне - fuimus (мы были)...
Виктор БЕРДИНСКИХ,
доктор ист. наук, профессор ВГПУ
| Следующая статья: Валентин СЕРГЕЕВ. Руки прочь от мальчика из Уржума! (версия убийства С.М.Кирова) |

