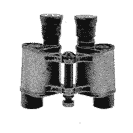 |
| Рубрики |
| Авторы |
| Персоналии |
| Оглавления |
| Авангард |
| М-студия |
| Архив |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
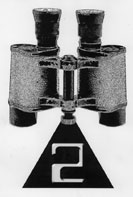 |
 |
 |
| Главная | О журнале | Оглавление | Отзывы |
 |
| О.Мандельштам. 1923. Фото М.Наппельбаума |
Dico ergo sum*
Размышление о Мандельштаме
Русская литература не сделала героя (см. подробнее «Бинокль» N 4). Русской мысли не существовало. Чаадаев в 1829 году сказал, что нас нет на карте мысли, создав очень опасное и узкое пространство нигилизма. Из которого ничего, кроме пустой дискуссии славянофилов и западников в XIX веке, не вышло: вместо того, чтобы думать о собственной жизни, мы рассуждали о своей похожести или непохожести на западных соседей. Ничего не изменилось? Где мы?
Мое внимание привлек навязчивый кошмар одних и тех же - на протяжении более тридцати лет самого интенсивного творчества - утверждений, рефлексий и вопросов к самому себе о трудности речи, речения, называния в поэзии Осипа Мандельштама. Взгляните на цитаты (курсив мой - В.Я.):
«Да обретут мои уста / Первоначальную немоту» («Silentium»),
«Нет стройных слов для жалоб и признаний» («Змей»),
«О, нашей жизни скудная основа, / Куда как беден радости язык!» («Tristia»),
«Легче камень поднять, чем имя твое повторить!> («Сестры тяжесть и нежность...»),
«И блаженное, бессмысленное слово / В первый раз произнесем» («В Петербурге мы сойдемся снова...»),
«И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка» («За то, что я руки твои не сумел удержать...»),
«Какая боль - искать потерянное слово» («1 января 1924 года»),
«Бог Нахтигаль, меня еще вербуют / Для новых чум, для семилетних боен. / Звук сузился, слова шипят, бунтуют, / Но ты живешь, и я с тобой спокоен» («К немецкой речи»),
«Быть может, прежде губ уже родился шепот» («Восьмистишия»),
«Часто пишется казнь, а читается правильно - песнь» («Голубые глаза и горячая лобная кость...»).
В посвящении Саломее Андрониковой для поэта главные слова сказаны не о любви, а о способности произнести ИМЯ (разве это не странно?):
Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
Целые стихи: «Я слово позабыл, что я хотел сказать. (...) И мысль бесплотная в чертог теней вернется» («Ласточка») и «Не у меня, не у тебя - у них / Вся сила окончаний родовых», - посвящены трудности речи.
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны.
Это про Сталина. Но про невыносимость жизни говорится через невозможность человеческой речи. Не только тех, кто против режима, но и тех, кто со Сталиным - «кто свистит, кто мяучит, кто хнычет», «он (Сталин - В.Я.) один лишь бабачит и тычет».
Вопрошание достигает кульминации в одном из главных и самых трудных стихотворений - «Нашедший подкову». Здесь Мандельштам увидел язык как проблему. Поэта нечто заставляет говорить. Что такое это нечто? Как оно устроено? Почему это так важно? Слово - случайно и неслучайно, оно рождается в голове поэта и вне его усилий. Но как? Увидев так язык, поэт переходит в другой регистр сознания - регистр мысли. А мысль всегда ищет своей первоосновы. Это самое трудное для мыслителя - найти начало, первооснову, но Мандельштам всё же задаёт этот проклятый вопрос:
С чего начать?
Всё трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой...
Здесь речь идет не только о поэтическом образе, а о некоей онтологической сущности, дающей дар говорения и мысли. У древних греков это была платоновская идея. У Мандельштама - воздух и земля. Русскому поэту больше не от чего оттолкнуться: русская жизнь не создала пространства для мысли, того умного неба, которое было у древних эллинов. Поэтому Мандельштам говорит:
То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зёрнам окаменелой пшеницы.
Тоска по мировым пространствам и мировой истории, которой у России никогда не было? Да. Это у акмеистов - программное. А еще - желание обрести память, то есть вписать свою речь в историю. Если в мыслительной истории нет ничего, то пусть это будут зёрна окаменелой пшеницы. Пусть будет такое начало, ибо:
Трижды блажен, кто введёт в песнь имя;
Украшенная названием песнь
Дольше живёт среди других -
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
Исцеляющей от беспамятства...
Вот что оказывается самым главным. Формула найдена. Чтобы исцелить(ся) от беспамятства, человеку нужно слово. Только через память и слово можно обрести смыслы - самое ценное в любом событии. Подойдя к тайне называния, Мандельштам уже не может писать рифмованным стихом, он не выдерживает торжественности говоримого и идет белым, почти библейским стихом. Ничего подобного с поэтом не случалось ни до, ни после. Ибо:
Человеческие губы, которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова...
От утверждений о трудности и важности говорения, называния, речения Мандельштам в Чердыни после падения из окна тюремной больницы («Прыжок. И я в уме»), приходит к осознанию собственной судьбы и ставит перед собой задачу в «Стансах»:
Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь - сам-друг...
Задача «работать речь» осознается как более важная, чем сама жизнь. Для которой поэт ДОЛЖЕН «жить», если при этом даже «БОЛЬШЕВЕЯ». Не может быть речи о заигрывании или примирении с режимом, который уже приготовился его уничтожить. Здесь задача осозналась как выговаривание, проговаривание, поглощение (уничтожение?) словами большевизма. Так мог думать только демиург. Это русское cogito ergo sum - «думаю, следовательно, существую» (Декарт). Но русская мысль в полном смысле до cogito дойти не могла. Не было истории, не было героев, субстанции, которые мысль могла мыслить. То есть, как бы сказали древние греки, у русских не было бытия, то есть осмысленной жизни. Герой, не помысленный художником, мыслителем, забыт. В России никогда не понимали героев. У греков был Гомер. В России никогда не было своего Гомера. В конце концов, не было даже религии, которую следовало потеснить cogito, как это произошло на Западе, где на смену Богу пришло cogito. Православие существовало только на уровне обрядов, что не в счет. «Русский народ не был крещен», - как-то сказала Ахматова. Все было аморфно, и эта аморфность поддерживалась только государством, ненавидящим мысль, ибо мысль - это свобода.
Мы застряли. Проснулись только в начале XX века, и стали самостоятельно пробовать называть вещи. Стали учиться говорить свободно, не имея традиции мысли. Нашей максимой стало dico ergo sum - «говорю, следовательно, существую». Так появилось на очень коротком промежутке времени с десяток русских гениев поэзии - Мандельштам, Гумилев, Белый, Цветаева, Ахматова, Пастернак, Маяковский, Хлебников, Северянин, Бальмонт. И каждый за свое «говорю» заплатил жизнью. В России говорить так же опасно, как жить.
Но метафизически всё это осмыслил только Мандельштам. Он всю жизнь думал над этим (см. цитаты). Думал из опыта других языков, много переводя. Только так можно зайти в зазор между двумя языковыми субстанциями и увидеть новые смыслы своего и чужого языков. Только из этого зазора видны драгоценные возможности мысли разных языков (см. в «Бинокле» N 5 мой анализ русского и английского). Думал из немецкого, завидуя его тщательности. У него есть такие слова в стихотворении «К немецкой речи»:
Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За всё, чем я обязан ей бессрочно.
Уйти, чтобы понять эту речь. Но еще больше ему хотелось быть «буквой, виноградной строчкой», то есть дойти до самого истока речи, где склеиваются ее смыслы, где срастаются ее значения, туда, где нет лжи. Где язык ищет быть орудием говорения истины. Язык через горло Мандельштама заорал о своей трансцендентальности, то есть способности производить новые смыслы, а не быть орудием неправды и отчуждения.
Поэтому он сказал (в «Захочешь жить...»):
Я больше не ребенок!
Ты, могила,
Не смей учить горбатого - молчи!
Я говорю за всех...
А позднее просто просил:
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Это была его главная просьба. Просьба поэта, создавшего самые прекрасные в мире стихи.
Могут спросить: а разве великая русская классическая литература XIX века не была матерью русского языка? Была-то была. Матерью светского языка. Но это была речь, не знающая кошмара называния, не увидевшая зазора между языком и миром. Литература свежая, только что появившаяся и потому немного наивная. Она была построена по логике эмансипации от речи французской, от бюрократии Петра. Она была попыткой века Просвещения на русской почве и потому бесконечно верила в свои силы. Та литература была отражением жизни...
Но простое отражение не имеет отношения к рождению мысли. Ибо для этого нужна свобода, нужен возврат в исток себя. Поэт начал работу мысли, поэт увидел язык как проблему. Ведь только в поэзии готовится язык. Здесь, говоря языком Мандельштама, шьются его швы, тут растет его мясо. В поэзии преизбыток человеческого естества, его ритмы (с которыми он не знает, что делать в обычной жизни) превращаются в стихи и драгоценные мысли, без которых не бывает человека.
 |
| О.Мандельштам. 1938. Фото в тюрьме |
Мандельштам сделал то же самое, что на Западе сделал философ Декарт, рассказав человечеству, что мысль - самое существенное в жизни. Поэт своей речью показал, насколько может быть прекрасен и интеллигибелен** русский язык. Ведь поэт и философ делают одно и тоже. Но по-разному. Запад после Декарта пошел к эпохе техники и процветания, а Россия уничтожила своего поэта, еще раз продемонстрировав свою враждебность мысли.
Вера ЯКУБОВИЧ
*Говорю, следовательно, существую (лат.).
*Интеллигибельный - сверхчувственный, постигаемый только разумом.
ОТ РЕДАКЦИИ. Основной метод анализа В.Якубович - рассмотрение творчества поэта как феномена, т.е. вне широкого культурного контекста. Основываясь на мифах о том, что а) в русской истории и литературе не было героев, б) вся русская культура началась после Петра, в) Гомер - единственный поэт, создавший героев, г) плодотворная история есть только на Западе, - автор создает свой оригинальный миф о Мандельштаме как первооткрывателе проблемы языка, речи и мысли. Этими проблемами занималась вся русская культура рубежа веков от Лосева до опоязовцев и футуристов. У Мандельштама автор нашла важную текстологическую - и философскую - проблему: только через слово можно обрести новые смыслы, трансцендентальную истину. Эта проблема весьма актуальна и сегодня.

